Венеция в русской литературе - [107]
Итак, герой романа пребывает в некой точке, где сходятся многовековое время с многоликим пространством, включающим даже татарское ханство (татарские глаза старика Джорджа Ермо-Николаева, доктор Торбаев, его жена — «как и доктор, она была из татар» (13), — сенатор Ермо-Николаев, отрицавший татарское происхождение семьи, Дженнифер Мур с монгольскими глазами) и древний Китай (Ермо предложено написать предисловие к роману «Цзинь Пин Мэй»). Эта точка — дом графа Сансеверино, «такой огромный, что пространство неизбежно превращается здесь во время, а в прошлое можно было спуститься по черной лестнице» (27). Возможно, это даже точка вневременная или всевременная, поскольку «в зале с напольными часами угнездился восьмой день недели» (27). Несмотря на то, что эмпирически место дома Сансеверино зафиксировано в пространстве (Венеция), психологически дом этот всегда присутствует в сознании героя, где бы тот ни находился, и определяет его (сознания) координаты.
Впервые дом Сансеверино возникает в детском сне Георгия Ермо в Нью-Сэйлеме. Возникает без всяких внешних оснований, но с неодолимой внутренней неизбежностью. Причем появляется он не целиком, а по частям, фрагментами, которые со временем соединяются друг с другом, дополняются и завершают это мысленное, подсознательное домостроительство: «Позднее ему удавалось — во сне — проникнуть внутрь, подняться по широкой лестнице с широкими белыми перилами, на концах скручивавшимися в раковины-вазы с живыми пряными цветами в глубине, войти в залы с зализанными ангелочками a la Беллини, картинами Пальмы и Париса Бордоне, кьяроскуро Уго да Капри, с кракелажными стеклами в дверях, выходящих на галерею…» (16). Это бессознательное движение в доме, где по пути все детали отмечаются так ясно, как будто дом видится наяву, — не случайное блуждание. Оно целенаправленно — это в конечном итоге путь к чаше Дандоло, пока еще не открытой сознанию героя, но с предчувствием ее значимости. Вехи пути связаны со св. Софией и с рыжеволосой, голубоглазой Софьей Илецкой, которая живет и погибает в Нью-Сэйлеме, но одновременно, как мы говорили, отражается в зеркале портрета бабушки Лиз, тоже Софьи, в доме Сансеверино. Именно к этому портрету, зная путь, и идет в своих снах еще не побывавший в Венеции Джордж Ермо.
Так два главных топоса оказываются как бы опрокинуты друг в друга: Венеция с домом Сансеверино и пока не обретенной в нем чашей присутствует в Нью-Сэйлеме, как позднее Нью-Сэйлем будет присутствовать в Венеции не только в воспоминаниях Ермо, но воплотившись в вещах американского дома, перевезенных в палаццо Сансеверино, и, в частности, в перстне с «еленевым» камнем, который Ермо, надев однажды, больше уже не снимал: «Он вернулся домой. Он все сделал» (68). Так два Дома соединились в одном, и центром его стала треугольная комната с чашей Дандоло.
Путь героя к чаше, помимо множества утрат и обретений, — это и путь к Венеции, которая в романе существует и не существует. Странным образом, город, столь восторженно и многократно описанный художниками, в произведении, действие которого по большей части происходит в Венеции, присутствует не столько топографически, сколько в ощущении. Нет традиционной словесной прорисовки собора св. Марка, Пьяццы и Пьяцетты, дворцов и храмов. Все описание Венеции вмещено в несколько абзацев, но и его трудно назвать описанием в точном значении слова: «Венеция — нет, она не дает счастья никому, но предчувствие счастья дарует — каждому. Это предчувствие не оставляло его всю жизнь, с той минуты, когда он впервые увидел этот странный город, эти дворцы, зыблющиеся на своих отражениях в текучих зеркалах, этот двусмысленный мир цвета и пятна, чуждый экстатической графике готики, нищей однозначности…» (15).
Ощущение Венеции всегда жило и живет в душе героя, он чувствует ее у себя за спиной, в том числе и в буквальном смысле: «…он обычно читал — спиной к окну, к висевшим в простенках гравюрам с видами Венеции» (23). Это «за спиной» оказывается для него крайне важным. В одной из включенных в текст романа новелл, «Lуart de mer», Ермо пишет: «Повернувшись спиной к морю, не остается ничего другого, как думать о море. Ведь ради этого все и затевалось. И первым делом нужно вообразить, что никакого моря за спиной нет. И вообще нет моря. Морей. Уверяю вас, это чрезвычайно трудная задача, ведь мир без моря — принципиально иной мир. Это именно мир без моря, чувствуете разницу? Другие скорости, цвета, иной образ жизни и мышления… В отречении от моря есть что-то монашеское: отрекаясь от Божьего мира, затворник восходит к Богу ради этого мира. Не забывайте, однако, что это лишь подготовка к главному. Наконец однажды, обнаружив, что среда превратилась в субботу, а вашу правую руку ни за что не отличить от левой, — вы понимаете: моря нет. Ни за спиной, ни вообще — в мире. И вот тогда-то вы приступаете к творению моря. Своего моря.
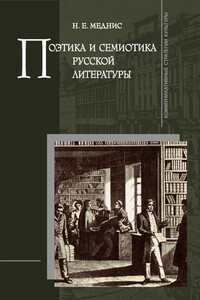
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».