Венеция в русской литературе - [109]
Последнее звено очень важно для постижения семантики мотива чаши. Все, что связано с Софией-Софьей, имеет, как и прочие удвоения, два полюса: на одном святая София, из константинопольского храма которой была взята чаша, на другом — Агнесса Шамардина, в некой крайней сущности представленная на картине художника Игоря как «Женщина, жрущая мясо». Эти несомненные противоположности неразрывно связаны друг с другом, и между ними, как между двумя зеркалами, располагается, отражаясь в обоих, первая любовь и жена Ермо, прекрасная рыжуха Софья Илецкая. Все три ипостаси равно необходимы в романе, и потому вряд ли прав Н. Елисеев, удивляющийся безвкусице Ермо, писателя, «равного по таланту Бунину и Набокову»[260]. На пути к постижению целостности, единства, на пути к единице не должно отрекаться от кричащей материальности. Путь здесь может быть один, по-пушкински:
Путь к единице, к слиянию с чашей в вечности, в безвременьи Венеции и Дандоло («Разница между художником и всеми остальными заключается, наверное, в том, что художник бросает вызов вечности, тогда как остальные стремятся обороть время…» (78)) состоит в обретении мудрости, Софии, которая открывается по мере приятия противоположностей бытия. Это точно почувствовала Агнесса Шамардина своей древней сущностью Ависаги Сунамитянки, когда заметила Ермо: «Русский человек сильно мечтает сказать всему „да“, но назло себе говорит „нет“. А у вас — только „да“» (86). Материальным выражением этого «да», символом целостности и является в конечном итоге чаша Дандоло, «Pith of House — pith of heart». Не переставая быть вещью, она в своей сакральности становится подобной иконе: предмет и не предмет одновременно, а как потир чаша отмечает высшую точку литургии — причастие, то есть причастность к жертве Христа, к Богу. Поэтому трепетные свидания героя с чашей всегда приобретают характер моления о чаше: «Свидания с нею бывали не каждый день. Иногда, уже дойдя до двери заветной комнатки, он вдруг передумывал и возвращался в кабинет. Что-то должно было случиться, чтобы час-другой наедине с чашей стал полно прожитым временем» (23).
Моление это включается в выработанный годами ритуал с множеством остро ощущаемых необходимых деталей: «Ключ от треугольной комнатки он не доверял никому, даже Фрэнку. Иногда на него находило, и он среди ночи вскакивал и отправлялся на свидание, волнуясь и сжимая ключ в кармане халата. Он ступал осторожно, чтобы не разбудить прислугу, словно тать. Слабо освещенный дом казался огромным аквариумом, в глубинах которого дремали чудовища. Дверь в зал открывалась бесшумно, но вот старый паркет поскрипывал, словно молодой лед. Громко — смазывай не смазывай — щелкал замок, с хрустом переламывая ключ. Наконец с шипеньем загоралась спичка, лихорадочно выхватывая из темноты и удваивая в зеркале обрывок руки, низ лица, чашу, подсвечник. Рядом с шахматным столиком всегда стояла бутылка-другая и стакан. Налив вина, он вытягивался во весь рост со скрещенными ногами в низком кресле, закуривал. Здесь можно было просто спокойно посидеть, ни о чем не думая. Да, о чаше было необязательно думать. Рано или поздно она сама собой вплывала сначала в поле зрения, а затем и в мысли, словно пытаясь придать всему свою форму, и всякий раз с усмешкой вспоминал Аристотеля: через искусство возникает то, форма чего находится в душе» (25–26).
Момент с вплывающей в поле зрения чашей напоминает описанное В. В. Розановым восприятие Дворца дожей и собора св. Марка: «Нужно было или в яркое утро, или в пустынную молчаливую ночь выйти на площадь и, остановясь в 3/4 ее длины, т. е. не подходя близко к св. Марку, — или сесть где-нибудь на каменные плиты, если была ночь, или, если это было утро, — спросить себе на столик кофе; и, не смотря прямо на главную красоту, так сказать, дышать этой площадью, ничего особенного не думать, не вспоминать истории и время от времени нечаянно взглядывать вперед, в направлении Марка и дворца. Все преднамеренное нехорошо. Тогда в ваше непреднамеренное ленивое дремание и Марк, и дворец входили незаметно и становились куда нужно. Через несколько времени седина этого места, удивительная его архитектурность, непосильная личному гению и доступная только гению времен, начинала в вас действовать. И минутами сердце наполнялось прямо восторгом и счастьем» (221).
В дальнейшем развитии сюжета функция чаши в структуре мотива меняется. Она, сохраняя свою всевременность, все теснее сопрягается с жизнью героя, влияя на ее динамическую перспективу. Свидания с чашей становятся необходимы для того, чтобы упорядочить собственное прошлое. Метафора этого упорядочивания — перестройка дома, к которой Ермо приступил, «словно спасаясь от захлестывавшего дом безумия» (67). В результате перестроек у чаши Дандоло появляется своего рода сюжетный двойник, отъятая тень — чаша на отреставрированном полотне Якопо дельи Убальдини «Моление о чаше». С этим удвоением связано важное семантическое включение — в мотиве моления о чаше начинает отчетливо просвечивать евангельский смысл: чаша как чаша бытия, путь жизни. Интересно, что две чаши вступают как бы в отношения противоборства: по мере того, как в реставрации открывается «Моление о чаше» Убальдини, доступ к чаше Дандоло затрудняется: «Как ни старался Ермо держать себя в руках, но то обстоятельство, что зал, через который он попадал в треугольную комнату с чашей, оказался занят реставраторами, их козлами, ведрами, банками и стремянками, раздражало его по-настоящему и с каждым днем все сильнее. Привычно налаживаясь на свидание с чашей, он вдруг спохватывался у двери в зал и возвращался наверх, в кабинет или на галерею» (80). В возникшем соперничестве новая чаша-двойник по законам романтических сюжетов, также упомянутых в романе, словно стремится вытеснить потир святой Софии, и это ей в конце концов удается — чаша Дандоло оказывается похищена именно теми, кто оживлял чашу Якопо дельи Убальдини. Но последняя вносит в жизнь Ермо и в дом Сансеверино не столько порядок, сколько хаос и смуту, хотя и помогает герою понять нечто важное, к прояснению чего он стремился всю жизнь.
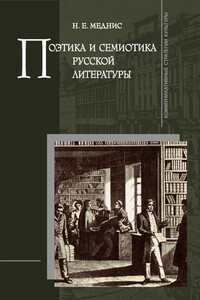
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.