В регистратуре - [23]
— Ты плохо переписал, несчастный Дармоед!
— Пощадите, прошу вас! — вскричал я.
— Ни за что. Молчи, Дармоед! Ты еще мне будешь перечить, сиволапый тупица! Такова твоя благодарность за все мои благодеяния?
Следует упомянуть, что из-за длинного языка родственника моего Жоржа, его милости стала известна тайна прозвища «Дармоед». Благодетель был крайне доволен рассказом Жоржа и даже ласково потрепал его по плечу. И насколько тупа была голова Мецената, чтобы запомнить речь председателя, настолько хорошо запомнил он слово «Дармоед» и часто выкрикивал его мне с таким же наслаждением и злорадством, как некогда это делая на наших холмах сосед Каноник.
Сейчас его сиятельство перевернул подставку и быстрыми шагами заходил передо мной, скрестив за спиной руки.
— Столько раз уже решался выйти в отставку… «Скромность и терпение». Гм, гм… Конечно, за все, что есть и что будет, они должны быть благодарны мне, да. Но честь! Глава! Как это я не буду главой «Скромности и терпения»? Гм… Знаю, ведь знаю же я, что за все мои благодеяния я никогда ничего не получу, да я и не рассчитываю на благодарность, но… но, Ванча, — обратился он ко мне, а я сидел, как истукан, не сводя глаз со своей копии великой речи, хотя всю ее от слова и до слова знал уже наизусть, лишь бы не прыснуть от смеха. — Но, Ванча, какие длинные фразы в этой ужасной речи, произносить их все равно что корову из реки тянуть за хвост! И мы, старые хорваты, учились и в скупщинах выступали, но не так же… Слова выскальзывают из памяти, будто слизняк из пальцев.
— Это так называемые цицероновские периоды, — отвечал я.
— Да откуда ты знаешь, Ванча?
— Изучаю. Я же в классической гимназии, ваше сиятельство! Мы должны сами такие речи и составлять, и уметь произносить на память.
— Гм, гм… Классик… Цицерон… периоды… все это когда-то было. Что-то вертится, вертится еще и по сию пору у меня в голове. Крутится, да!.. Классик. Ну, и помнишь ли ты какую-нибудь свою речь, Ванча?
— Помню. Я и эту уже знаю.
— Эту? Какую эту? — разинул рот Меценат.
— Ту, что вы сейчас заучиваете.
— Ну, наглец, да как ты решился? Как ты решился, грязный мошенник! Вот благодарность за мои благодеяния! Это моя тайна, а ты решился, ты, сиволапый тупица?
— Я ее не учил, она сама собой врезалась в память, когда я ее читал, а вы учили. И когда переписывал.
— Врезалась… врезалась в память? — Старый благодетель приложил ко лбу палец. — Я этого не понимаю — как врезалась в память? Тысяча чертей, как она тебе врезалась в память? Я тут мучаюсь, бьюсь, отдуваюсь, а она все равно не лезет в голову. Надо же, врезалась в память. А ну-ка попробуй ты, Ванча, раз врезалась.
И я начал говорить, прямо загрохотал. Меценат разинул рот, и глаза его скосились вправо, будто ему шею вилами прищемили. Когда я перешел к месту, где поэт сам себе курит густой фимиам: «Великая благодарность, честь и слава нашему первому народному лирическому поэту Рудимиру Бомбардировичу-Шайковскому (литературный псевдоним поэта и составителя речей, конечно же, был куда благозвучнее Дармоеда), который своим голубиным сердцем вознес над египетскими пирамидами нашу целомудренную литературу, который своим огромным талантом утешил сирых, напоил голодных, накормил жаждущих, который своим божественным гением защитил бедных и убогих животных: воробьев и синиц, замерзающих в лютую стужу, лошадей и ослов, подыхающих от жестокости наших батраков и кучеров…»
И тут его сиятельство внезапно закричал:
— Хватит, Ванча, хватит! Ты настоящий Мафусаил[24] (благодетель, очевидно, спутал Мафусаила с Меццофанти:[25] lapsus linguae или memoriae[26]. Что вы хотите, милосердие требует прощать меценатам подобные оговорки). Однако мне не понять, отчего в речи утверждается, что он напоил голодных и накормил жаждущих. Это же явная ошибка! Или это licentia poetica?[27]
— Нет, это ораторский прием, образ, именуемый метонимией, — ответил я.
— Да, да, монотония… я помню, мы тоже когда-то проходили… монотонию. Конечно, разве голодные не пьют? И соответственно: накормить жаждущих. О, наш поэт! Да, Бомбардирович-Шайковский! Великий он человек, Ванча! Великий… Гм, гм. А почему он не зовется своим подлинным именем: Имбрица Шпичек из Воловщины… А, Ванча?
— Так это все равно что моя кличка Дармоед.
— А, теперь мне все ясно. Твое прозвище — Дармоед, а его — Бомбардирович-Шайковский. Ну и Ванча, дьявольское отродье вроде своего родственника Юрича! Вот так так… А что, Ванча, — после долгого молчания пришел к выводу Меценат, — если ты на годовом собрании нашего общества «Скромность и терпение» вместо меня произнесешь это длиннющее сочинение нашего величайшего лирического поэта? А? Да ты обязан это сделать просто из благодарности за мои благодеяния!
— Я, конечно, готов, ваше сиятельство! Но это же совершенно невозможно. Что бы сказали древние римляне, если б вместо знаменитого Цицерона в сенате выступил какой-нибудь к примеру, его scribax vulgaris![28] А наши газеты, ваша светлость?
— Scribax vulgaris… наши газеты… гм, Ванча! Наши газеты? А что они? Или я неизвестен повсеместно своими благодеяниями, о которых все газеты писали наиподробнейше? А, Ванча? Или все эти обжиралы и выпивохи не у меня столько раз объедались и напивались? А?
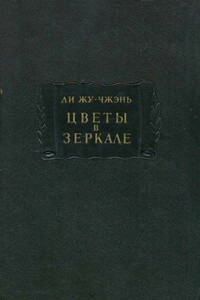
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
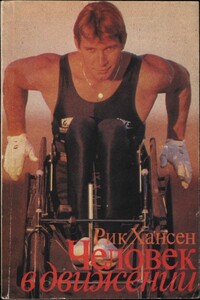
Рик Хансен — человек трудной судьбы. В результате несчастного случая он стал инвалидом. Но воля и занятия физической культурой позволили ему переломить ход событий, вернуться к активной жизни. Хансен задумал и осуществил кругосветное путешествие, проехав десятки тысяч километров на инвалидной коляске. Об этом путешествии, о силе человеческого духа эта книга. Адресуется широкому кругу читателей.

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Книги Сэлинджера стали переломной вехой в истории мировой литературы и сделались настольными для многих поколений молодых бунтарей от битников и хиппи до современных радикальных молодежных движений. Повести «Фрэнни» и «Зуи» наряду с таким бесспорным шедевром Сэлинджера, как «Над пропастью во ржи», входят в золотой фонд сокровищницы всемирной литературы.

Талант Николая Васильевича Гоголя поистине многогранен и монументален: он одновременно реалист, мистик, романтик, сатирик, драматург-новатор, создатель своего собственного литературного направления и уникального метода. По словам Владимира Набокова, «проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна». Читая произведения этого выдающегося писателя XIX века, мы действительно понимаем, что они словно бы не принадлежат нашему миру, привычному нам пространству. В настоящее издание вошли все шедевры мастера, так что читатель может еще раз убедиться, насколько разнообразен и неповторим Гоголь и насколько мощно его влияние на развитие русской литературы.
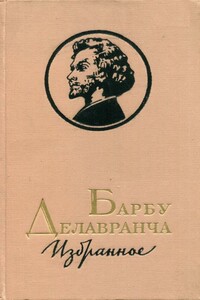
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
