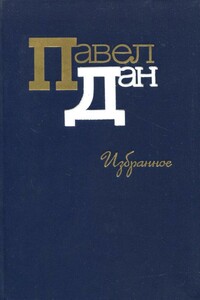В регистратуре - [12]
— А чего это ты, музыкантский Дармоед, проповедь ему читаешь? Михо, забирай свои вещи и гони этого пустомелю. Я же знаю, что ты умнее Дармоеда. Да и не нужны тебе эти глупости! Хозяйство, хозяйство — вот что главное, а у нас есть, слава богу, где похозяйствовать! Этой глисте, понятно, приходится чепухой заниматься, иначе скакать ему верхом на задрипанном басе, как его отцу Дармоеду, ведь у них в доме и лопаты приличной хлеб таскать из печи нету. А у нас?
— Перестаньте, сосед, замолчите! — возмутился я. — Что вы ругаете и браните меня, будто турок? Разве плохо, что я объясняю Михо и Перо то, чего они не понимают? И учитель нас учит тому же, разве не доброе это дело?
— Кыш, кыш! Воробей с чужого плетня, кыш! На что мне нужны науки твои и учителя твоего? Отец твой таскает в школу полные торбы, учителя умасливает, он и старается, любовь и похвалы на тебя изливает! Пусть подкупает, антихристовы науки не для меня! Кыш, кыш! Проваливай отсюда, Дармоед! — зловещий сосед затрясся и, выхватив длинную хворостину, вытянул меня ею по спине и по уху.
Дрожь и стыд охватили меня. Я ушел. Сердце мое было разбито, душа надломилась. Но я никому не сказал в том, как сосед прогнал меня от своих сыновей. Я оторвался от них, как лист от ветки, мы теперь не дружили, не ходили вместе ни в школу, ни из школы. Ни я, ни они никому ничего не объясняли. Только Перо порой улыбался мне своей доброй улыбкой, будто хотел сказать: «Так вот… что поделаешь… так уж получилось!»
Прошло немного времени, и неожиданный поворот в моей судьбе разлучил меня и с нашими холмами, и с отцовской хибарой, и с соседями, и с убогой деревенской жизнью.
Рассказчик остановился и, обратившись к слушателям, попросил дать ему передохнуть.
— Перерыв, конечно, перерыв! — позевывали молодые. — Мы и так скоро заснем от этого занимательного рассказа о детстве уважаемого господина регистратора! Ха-ха-ха, — смеялось молодое поколение.
— Что это за новое течение в нашей литературе? Столько разглагольствовать о детстве! Ужасная глупость! — лениво потянулся какой-то верзила, очень довольный собой: мол, сама мудрость глаголет его устами!
— Это не течение. Это, брат, школа. И в литературе есть школы, — с иронией поправил его одышливый голос высокородного толстяка с вечно сладким выражением лица и непросыхающими слезами на глазах, который взял себе в обычай каждого поправлять и каждому прекословить.
— Да, школа. Именно так это и называется, — подхватил хилый, похожий на старичка белобрысый юноша, протирая очки и выговаривая отдельные слова с крестьянским акцентом. Он принялся рассуждать о том, как произошло слово «школа» с филологической точки зрения. Сперва он обозрел самые пропылившиеся уголки древнего мира, не забыв, естественно, упомянуть о санскрите и, уж конечно, о корнях скифских племен. Затем весьма точно обозначил «греческие школы» на широком поле «культуры». Больше всего им поминались имена Платона и Аристотеля. Коснулся он и римлян, но бережно; осторожно высказался о Цицероне и Сенеке, опираясь на «мнение не свое, но целиком им разделяемое», в том духе, что римляне вообще — копия греков, и право их всего лишь суррогат греческого мышления, греческой философии и греческой истории.
Здесь-то и вспыхнула оживленная дискуссия. Верзила так громко и визгливо кричал, защищая римлян, будто Папиниан[14] приходился ему дедом, а Ульпиан[15] — отцом.
— Разве можно так думать о римлянах? Поймите же, вашим рассуждениям грош цена. Я с вами, милостивый государь, совершенно не согласен. Вам явно не хватает знаний, раз вы столь смело утверждаете, будто римляне являлись копией греков. Уверяю вас, милостивый государь, это не так. Можете мне поверить, в этом я, милостивый государь, разбираюсь лучше вас.
Верзила размахивал всеми четырьмя конечностями — я имею в виду руки и ноги, точно ветряная мельница, а язык его выполнял роль ветра, который заставлял эту мельницу вертеться.
Белобрысый терпеливо слушал, глядя на него сквозь очки так, словно не видел его и не мог понять, каким образом этот размазня издает столько шума. И хотя долговязый оппонент занимал не так уж мало места, белобрысый не сумел его отыскать, говоря тем самым, что и в самом деле там, где раскудахтался верзила, ничего нет, одна пустота. И он ничего не ответил, лишь горькая усмешка тронула губы: мол, ветер дует, а время-то уходит, драгоценное время… От греков и римлян оратор перешел к средним векам, где походя коснулся физиократической школы, выказав к ней особую склонность, не обошел и болонских глоссаторов[16], на которых начал чуть запинаться, и, наконец, заключил все Золя, Тургеневым и другими.
— Ух, ну и скучища! — раздосадованно вздохнул профессор математики.
— Да все это нам известно! — возмутился высокородный толстяк, топая ножками, а его одышливый голос задрожал сильнее.
— Еще бы! Конечно, известно! — подтвердил верзила, разбросав свои конечности и несколько склонившись вправо, чтобы удобнее было сразить взглядом белобрысого.
— Перед вами ученый! Ученый! Что вы его прерываете? Вы что, Ниппели, Штубенраухи, Унгеры? — издевательски заметило медицинское заключение о резекции желудка вегетарианца.

Талант Николая Васильевича Гоголя поистине многогранен и монументален: он одновременно реалист, мистик, романтик, сатирик, драматург-новатор, создатель своего собственного литературного направления и уникального метода. По словам Владимира Набокова, «проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна». Читая произведения этого выдающегося писателя XIX века, мы действительно понимаем, что они словно бы не принадлежат нашему миру, привычному нам пространству. В настоящее издание вошли все шедевры мастера, так что читатель может еще раз убедиться, насколько разнообразен и неповторим Гоголь и насколько мощно его влияние на развитие русской литературы.
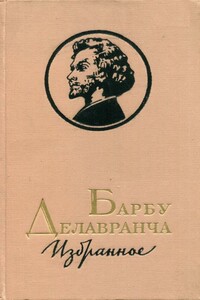
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
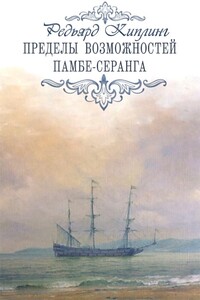
«Когда вы узнаете все обстоятельства дела, то сами согласитесь, что он не мог поступить иначе. И всё же Памбе-серанг был приговорен к смерти через повешение и умер на виселице…».

В книгу вошли стихотворения английских поэтов эпохи королевы Виктории (XIX век). Всего 57 поэтов, разных по стилю, школам, мировоззрению, таланту и, наконец, по их значению в истории английской литературы. Их творчество представляет собой непрерывный процесс развития английской поэзии, начиная с эпохи Возрождения, и особенно заметный в исключительно важной для всех поэтических душ теме – теме любви. В этой книге читатель встретит и знакомые имена: Уильям Блейк, Джордж Байрон, Перси Биши Шелли, Уильям Вордсворт, Джон Китс, Роберт Браунинг, Альфред Теннисон, Алджернон Чарльз Суинбёрн, Данте Габриэль Россетти, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд, а также поэтов малознакомых или незнакомых совсем.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.