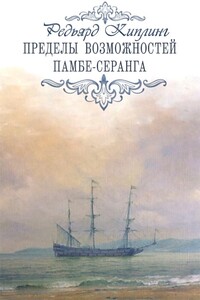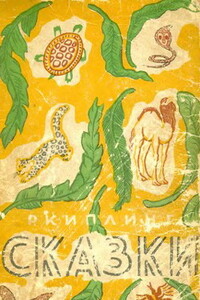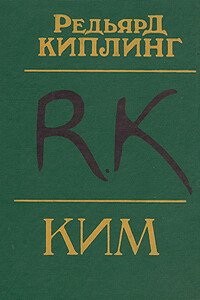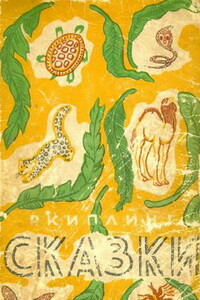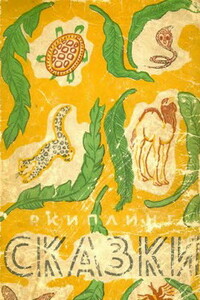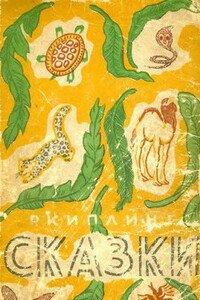Когда вы узнаете все обстоятельства дела, то сами согласитесь, что он не мог поступить иначе. И всё же Памбе-серанг был приговорен к смерти через повешение и умер на виселице, и Наркид тоже мёртв.
Тремя годами раньше пароход компании «Эльзас-Лотарингия»[1], «Саарбрюкен», бункеровался в Адене; погода стояла очень жаркая, и Наркид, большой толстый кочегар-занзибарец, стоявший у второй правой топки котла, в тридцати футах ниже палубы, был отпущен на берег. Он сошёл с корабля простым «сидди-боем», как именовали кочегаров; вернулся он чистокровным султаном Занзибара[2] — Его Величеством Сайидом Бургашем[3], и с бутылкой в каждой руке. Рассевшись на решётке форлюка[4], он ел солёную рыбу с луком, распевая песни далёкой родины. Эта провизия принадлежала Памбе, который был серангом, то есть предводителем моряков-ласкаров[5]. Памбе приготовил себе ужин и отошёл за солью, а когда он вернулся, Наркид уже запустил грязные чёрные пальцы в его рис.
Серанг — важная персона на корабле, куда важнее кочегара, пусть даже кочегарам и платят больше. Серанг дирижирует хором, выпевающим «Хей! Хулла! Хайя! Хей-я!», когда капитанскую гичку[6] поднимают на шлюпбалки[7]; он промеряет глубины лотом, а иногда, когда все на корабле отдыхают, он надевает свой белейший муслин, подпоясывается широким красным кушаком и играет на шканцах[8] с детьми пассажиров. За это пассажиры дают ему деньги, которые он откладывает для будущего разгула в Бомбее, Калькутте или Пулу Пенанге[9].
— Эй, жирный чёрный бурдюк! Ты ешь мою еду! — сказал Памбе на втором lingua franca, который начинается там, где заканчивается левантийский язык, и тянется на восток от Порт-Саида до тех мест, где восток становится западом и где котиколовы Курильских островов болтают с заплутавшими джонками из Хакодате[10].
— Сын Иблиса! Обезьянья морда! Сушёная акулья печёнка! Проклятый свинопас! Я — султан Сайид Бургаш и капитан этого корабля! Забирай свои объедки! — и Наркид швырнул Памбе пустую оловянную тарелку из-под риса.
Памбе метнул тарелку в лохань, и она пролетела над курчавой головой кочегара. Наркид достал нож и вонзил его Памбе в ногу. Памбе выхватил свой нож, но Наркид уже скрылся во тьме трюма и сквозь решётку осыпал ругательствами Памбе, пятнавшего кровью чистую носовую палубу.
Всё это видела лишь бледная луна; офицеры следили за погрузкой угля, а пассажиров качало в их тесных каютах.
— Ладно, — сказал Памбе, отправляясь перевязывать ногу, — мы сведём счёты позднее.
Памбе был малайцем из Индии; у него была жена в Бирме, она держала сигарную лавку на дороге к Шведагону[11]; в Сингапуре у него была вторая жена, китаянка, и ещё одна жена в Мадрасе — магометанка, торговавшая птицей. Моряк-англичанин не может обзаводиться женами так вольготно, как хотел бы, из-за почтовых и телеграфных устройств, но туземные моряки, невосприимчивые к варварским изобретениям западных дикарей, могут себе это позволить. Памбе был хорошим мужем, когда ему случалось вспомнить о наличии жён, но ещё он был очень хорошим малайцем, а оскорблять малайца весьма неблагоразумно, потому что малаец ничего не прощает. Кроме того, в случае с Памбе была пролита кровь и испорчена еда.
Наутро Наркид проснулся, ничего не помня о вчерашнем происшествии. Он был уже не султан Занзибара, а очень потный кочегар. Он поднялся на палубу и распахнул куртку навстречу утреннему бризу, и тут в полудюйме от его правой подмышки, подобно летучей рыбе, пролетел и вонзился в деревянную панель камбуза охотничий нож. Наркид, не дожидаясь конца отведённого на отдых времени, сбежал вниз, пытаясь вспомнить, что он мог наговорить владельцу ножа. В полдень, когда ласкары обедали, Наркид подошёл к ним, и будучи человеком мирным и внимательным к сохранности своей шкуры, вступил в переговоры:
— Моряки, прошлой ночью я напился, а утром понял, что вёл себя невежливо с кем-то из вас. Скажите мне, кто это был, и я потолкую с ним с глазу на глаз и объясню, что напился.
Памбе оценил расстояние до обнаженной груди Наркида. Если кинуться на него сейчас, то можно споткнуться, а при неточном ударе в грудь нож может застрять в грудной кости. Вогнать нож между рёбер вообще трудно, разве что человек в это время спит. Поэтому Памбе промолчал, и остальные ласкары тоже. Их лица мгновенно утратили всякое выражение, как это бывает у людей Востока, когда дело касается убийства или какой-нибудь другой неприятности. Наркид долго смотрел в их пустые глаза. Он был простой африканец и не умел читать по лицам. Тяжёлый вздох — почти стон — вырвался из его груди, и он вернулся к своей топке. Ласкары продолжили разговор с того места, где он их прервал. Они говорили о том, как лучше готовить рис.
Весь переход до Бомбея Наркид сильно страдал от нехватки кислорода. Он осмеливался выйти на палубу за глотком свежего воздуха, когда вокруг был решительно весь корабль, — но и этого оказалось недостаточно. Однажды тяжёлый блок деррик-крана сорвался и упал в футе от его головы; крепко, казалось, привязанная решётка, на которую он поставил было ногу, стала проворачиваться, грозя сбросить его на ящики с грузом в трюме, на глубине пятнадцати футов. Одной невыносимо душной ночью откуда-то с полубака прилетел нож, и на этот раз пролилась кровь. И Наркид подал жалобу, а когда корабль пришёл в Бомбей, сбежал, затерялся среди восьмисот тысяч человек и ждал целый месяц после того, как «Саарбрюккен» вышел из порта, прежде чем подписать новый контракт. Памбе тоже ждал, но его бомбейская жена стала слишком требовательной, и он на себе прочувствовал пословицу о Джеке, что «не пашет, а гуляет — в сорочке рваной щеголяет», так что ему пришлось завербоваться на «Спишеран» на рейс до Гонконга. В туманных Китайских морях он много думал о Наркиде; он навёл справки в порту, где «Спишеран» стоял с пароходами «Эльзас-Лотарингии», и выяснил, что кочегар плывёт на «Гравелотт» в Англию через мыс Доброй Надежды. И Памбе отправился в Англию на «Вёрте». У якорной стоянки Нор