В регистратуре - [10]
«А читать и писать, — продолжал жупник, — это куда лучше, нежели музыка и бас. Сейчас, дорогой мой, тяжелые времена. С каждым днем нас все больше и больше, земли у нас мало, а нам на ней все теснее!»
«Все это барские выдумки, — прервал жупника наш сосед, коротыш Каноник. — А мы не желаем, чтобы наши дети господами стали. Не желаем и все. Почет и уважение господам! Мы господство им дарим. Дети мои в школах печь да варить не будут. Хлеб растет не от чернил, а от жижи навозной. И мы живем не тем, что пером водим по бумаге, а тем, что хорошенько поплюем на ладони да врежемся плугом и мотыгой в твердую плоть земную. С чего бы это земле становиться меньше и тесней? Вы сами, господин жупник, каждый раз под новый год читаете, что умерло нас больше, чем родилось. Вам, господа, почет и уважение, но это вам на земле все теснее, Потому вы и выдумываете все новые байки, потому-то вас что ни день все больше!» И не оборви жандарм языкастого Каноника, он три дня честил бы господ. Ответить-то им нечего, молча слушали, лишь переглядывались, усмехались да что-то калякали друг другу на ухо не по-нашему, чего мы, конечно ж, не понимали. Э, коли так, — рубанул отец рукой воздух, — значит, и на то божья воля, а не антихристова, как твердит сосед. Записали Ивицу в школу, пусть идет. Утром его собери. Отнесу учителю бутылку старой сливовицы, индюка, а ты с десяток яиц отложи и круг брынзы. Все розга учительская будет помягче и буквы поподатливей.
Отец закончил. А я долго не мог уснуть. Перед глазами у меня постоянно вертелось: и как сосед наш едет на моей тележке, и как он плюхнулся в грязь, и разговор Каноника с отцом. Школа! Учитель! Индюк… сливовица, розга помягче и — буквы!
На следующий день мы отправились в путь. До школы идти было целый час. Первый раз дорога туда показалась мне далекой и трудной.
Школа находилась в ложбине, возле большака. Раньше в этом доме, подаренном общине, проживал лесничий, останавливались тут на ночлег и помещичьи чиновники, наезжавшие в этот край по делам. Выросли возле школы и еще кое-какие домишки, например мелочная лавка еврея Моезера, корчма Якова Чутурича и тому подобное.
Когда мы подошли к школе, отец взял меня за руку, и мы, скинув шапки уже на ступеньках, слегка подрагивающих под нами, вступили в школьный коридор. За ближайшей дверью слышался шорох и легкий шум, а также громкий мужской голос.
— Вот она, школа! — шепнул мне отец. — Слышишь учителя? А шум? Это школьники.
Отец пригладил волосы, шероховатой рукой два-три раза провел по моей голове, откашлялся и постучал в дверь. Я не понимал еще, зачем надо стучать и что сие означает. Дверь отворилась, в лицо ударило тяжелым запахом, невнятное бормотанье стало громче. Дети напомнили мне пчелиный рой. Они поднялись и странно пропели: «Слава Иисусу». Никогда прежде не видал я столько детей сразу. Меня охватили непонятное нетерпение и лихорадочная веселость, смешанные с удивлением и любопытством. К нам вышел, затворив за собой пчельник (я хотел сказать — класс), высокий, худой, хмурый, чем-то озабоченный человек в длинном потертом сюртуке и с пышными усами, падавшими чуть ли не на грудь. В пчельнике зашуршало и зашелестело громче. Учитель быстро обернулся, крикнул ученикам: «Тише!» — и опять затворил за собой дверь.
— А, так рано! Так рано! Прекрасно, Йожица! Это твой малыш? — Учитель погладил меня по голове и стиснул мне щеки большим и указательным пальцами. Но глядел он не столько на меня, сколько на тугую торбу, которая самоуверенно и даже нагло вздувалась на отцовской спине, в то время как индюк, что тебе индийский брамин, мирно дремал у отца за пазухой.
— Так как же тебя зовут, малыш, ученичок ты мой? — похлопал меня учитель по плечу.
— Ивица, Ивица, господин учитель! — отвечал отец, снимая торбу со спины.
— Пусть он сам назовет свое имя! — заметил учитель, снова окинув взглядом отцовскую торбу и задремавшего индюка. — Пусть он сам скажет, чтобы я услышал его голос…
— Ну, давай же, давай. Говори! — подталкивал меня отец.
И я, уставившись прямо на учителя, произнес:
— Меня зовут Ивица Кичманович!
Тут отец раскрыл свою торбу.
— Это вам, господин учитель, и за буквы, и за розгу, и за чернила, и за перья…
— Надо же! Ай да музыкант Йожица! Будто со свадьбы пришел, — смеялся учитель, широко разевая большой рот с крепкими, белыми зубами и благодушно похлопывая отца по спине.
— Пойдем-ка сюда, Йожица! Этой птице, этому свадебному угощению в школе не место! — И учитель показал нам свою комнату, куда мы вошли с покорным видом.
— Пепушка! — кликнул учитель свою хозяйку. — Освободи-ка торбу почтенного кума.
Из-за стола поднялась маленькая сухонькая женщина с пронзительным взглядом и длинным носом и недоброжелательно подошла к отцу, вытаскивающему из торбы сливовицу, брынзу и масло. Индюк проснулся и стал бить крыльями, вздымая с пола густую пыль…
Я догадался помочь госпоже учительше отнести подношения в кухню. Первым делом она поприветствовала индюка:
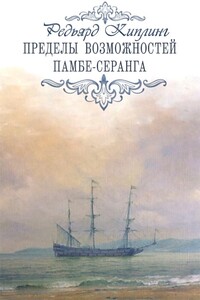
«Когда вы узнаете все обстоятельства дела, то сами согласитесь, что он не мог поступить иначе. И всё же Памбе-серанг был приговорен к смерти через повешение и умер на виселице…».

«— Итак, — сказал полковой капеллан, — все было сделано правильно, вполне правильно, и я очень доволен Руттон Сингом и Аттар Сингом. Они пожали плоды своих жизней. Капеллан сложил руки и уселся на веранде. Жаркий день окончился, среди бараков тянуло приятным запахом кушанья, полуодетые люди расхаживали взад и вперёд, держа в руках плетёные подносы и кружки с водой. Полк находился дома и отдыхал в своих казармах, в своей собственной области…».
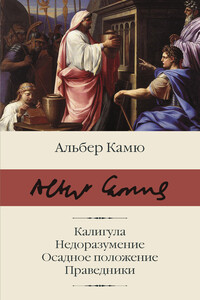
Трагедия одиночества на вершине власти – «Калигула». Трагедия абсолютного взаимного непонимания – «Недоразумение». Трагедия юношеского максимализма, ставшего основой для анархического террора, – «Праведники». И сложная, изысканная и эффектная трагикомедия «Осадное положение» о приходе чумы в средневековый испанский город. Две пьесы из четырех, вошедших в этот сборник, относятся к наиболее популярным драматическим произведениям Альбера Камю, буквально не сходящим с мировых сцен. Две другие, напротив, известны только преданным читателям и исследователям его творчества.

В книгу вошли стихотворения английских поэтов эпохи королевы Виктории (XIX век). Всего 57 поэтов, разных по стилю, школам, мировоззрению, таланту и, наконец, по их значению в истории английской литературы. Их творчество представляет собой непрерывный процесс развития английской поэзии, начиная с эпохи Возрождения, и особенно заметный в исключительно важной для всех поэтических душ теме – теме любви. В этой книге читатель встретит и знакомые имена: Уильям Блейк, Джордж Байрон, Перси Биши Шелли, Уильям Вордсворт, Джон Китс, Роберт Браунинг, Альфред Теннисон, Алджернон Чарльз Суинбёрн, Данте Габриэль Россетти, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд, а также поэтов малознакомых или незнакомых совсем.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.
