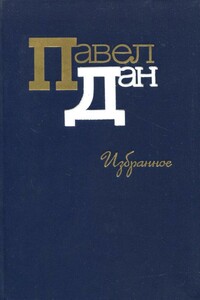В регистратуре - [13]
— У нас в литературе тоже есть школы. А если не школы, то имитаторы и последователи отдельных школ, — продолжал белобрысый, поднося платок ко рту и не обращая внимания на колкости.
— Кончайте-ка воду толочь, милый юноша! Вы начали так издалека, будто это первая лекция в учебном году и вы боитесь, что вам не хватит до конца материала. Говорю вам: нет у нас никаких школ и никаких последователей! Вы, филологи и философы, принюхавшись к этим вещам, смотрите на часы: не время ли? И вот, засучив рукава, растащите все на части, разрежете, вскроете, добавите эстетических пряностей, примешаете чужих идей, которые вы лучше всего запомнили и переварили, потом все залатаете, покрасите и покроете глазурью, на манер кондитера, что из недоброкачественных продуктов делает прекрасный пирог. Наконец, соотнесете свой шедевр с несколькими устаревшими системами, и, пожалуйста, открыты великие мужи, такие-то школы, знаменитые писатели, гениальные поэты, золотые перья, проницательные умы, большие надежды! А пройдет год-другой, без микроскопа и не разглядишь всех этих великанов, вами напридуманных. Да и сами вы стараетесь больше не вспоминать свое собственное детище, будто время его изуродовало и вы стыдитесь его. И вновь ищете и еще быстрей находите новых гигантов мысли и поклоняетесь им, как египетские жрецы кумирам, которых сами вытесали. «Вот оно, ваше тщеславие, как говорит где-то Паскаль, вы пишете и галдите о других, чтобы прославить самих себя».
Белобрысый поначалу внимательно слушал нового оратора, прервавшего его столь резко и грубо, а вернее, вообще лишившего его слова. Костлявое, потемневшее лицо мрачного собеседника составляло настоящий треугольник, а длинная, поседевшая борода будто окаменела на груди.
— Так чем мы располагаем? — Он взглянул на ладонь. — Ничем! Вот! — И он сдул с ладони воображаемую пыль. — Все, что вы провозглашаете одаренным, гениальным, обнадеживающим и как там еще… Нищета и горе горькое. Все завалено трухой сомнительных утверждений. Одни чем только не забивают себе голову?! В мозгах у них все в безупречном порядке, как в роскошном, полированном книжном шкафу. Но разве этим людям накормить свой дух такой пищей, разве она способна сотворить новую жизнь в духовном мире? Не напоминают ли они волов, которые везут мешки с чужим добром и богатством, а неразумный зевака смотрит да дивится богатству волов, вздыхая: кому ж все это достанется, кому ж в завещании определят они свои несметные сокровища?.. Другие ничему не отдаются полностью и до конца. Их встречаешь повсюду. Где не пройдут в двери, лезут в окна, появятся и исчезнут, смотря по обстоятельствам. Вы сами помогаете им задирать нос; напыщенные и тщеславные, некоторое время они перебиваются с хлеба на воду, пока не надоедят и людям, и самим себе. Словно прилив и отлив — одни откатываются, другие подступают, пока все не превратится в абсолютное ничто.
И мрачный человек опять дунул на свою ладонь и обвел глазами присутствующих, ища одобрения.
Но никто не выразил ему одобрения или неодобрения, согласия или несогласия. Казалось, его толком и не слушали. Белобрысый забился в свой угол. Верзила раскинулся вольготно, презрительно чему-то усмехаясь, хотя вряд ли мог бы сказать — кому и чему. Толстяк понурил голову, а Регистр обеими руками подпер щеки, будто говоря: «Да скоро ли ты закончишь?»
— Боже, боже! Что за век, что за люди! — снова заворчали, нарушив общее молчание, старики из-под самого потолка. — Только препираются, и никто ничего не делает. Еще и не родишься, а тебе уже отрубают голову. Прямо-таки цыгане: грызутся, галдят, спорят, кому достанется пирог, коли найдется противень, хотя ни муки нет, ни масла, ни огня, чтобы его испечь. Козленок еще на свет божий не появился, а он у них уже блеет и по лугам бегает. Ах, дети, дети! Где-то наша буйная молодость? Где наш восторг и вдохновение? Где золотая пора наших трудов, мук, стараний и плодов?
— Небо хмурится. Старики разворчались — к ненастью, должно быть. П-сс! Давайте слушать, — подал голос верзила.
Регистр встряхнул пыльной гривой своих волос и дал знак рассказчику продолжать.
В большом городе служил дальний родич моего отца. Когда отец просил у него об одолжении, так отец ему десятая вода на киселе, отрезанный ломоть! Когда же тот хотел что-либо от отца, так он — милый дядюшка, первый и ближайший родич.
Этот родич любил оскоромить ус, хотя, поскольку ни бороды, ни усов не носил, точнее будет сказать: любил оскоромить глотку, и служил он у одного высокопоставленного господина, которого родич наш именовал не иначе, как светлейшим.
Сперва родича называли «господин лакей Юрич», позднее, похоже, по собственному его настоянию, к нему стали обращаться «господин камердир Жорж при светлейшем».
Итак, господин камердир Жорж имел обыкновение каждый год на Рождество навещать наши горные деревеньки. Являлся он к нам, правда, совсем по пословице «Omnia mea mecum porto»[17], и это «omnia mea» значило и стоило весьма много. Камердинер Жорж приезжал в наше захолустье с громадным перстнем на правой руке, перчатку он на нее не надевал, дабы каждый мог видеть перстень и судить по нему о его богатстве и достоинстве. В церкви на рождественских службах Жорж непрестанно орудовал правой рукой, то он поднимет ее, якобы осеняя себя крестом в молитве, то потянется за платком, то еще что-нибудь придумает и сделает. При этом перстень сверкал удивительно, будто зеркальце, повернутое к солнцу. Женщины и девушки забывали о молитве и устремляли на него набожные взгляды. И тот, кто знает все тайны человеческого сердца, не раз слышал, как вздыхают не только деревенские прелестницы, но и иные скромные крестьянки: «Ах, господи, если б ты одарил меня им, как была бы я счастлива!» Левую руку, всегда в замшевой перчатке, Жорж элегантно держал опущенной вдоль тела или же перехватывал ею крест, когда что-либо вершил правой. А ко всему еще лощеный сюртук с большими позолоченными пуговицами вроде червонцев! А помада, которая в изобилии стекала с прилизанных волос на бычью, тщательнейшим образом выбритую шею! А белый пробор ото лба через всю голову к выбритому загривку, точно дорога, что ведет через вершину горы от одного подножия к другому! И наконец, немыслимый запах, которым благоухает господин камердир… И впрямь немыслимый: будто навозную яму окурили ладаном… Крестьяне переглядывались, подталкивали друг друга плечами, ногами и перемигивались: «Эх, боже мой! Боже мой! Какой пророк мог предсказать, что выйдет из нашего Юрича? Повезло человеку! Вот уж счастлива мать, его породившая! Да!» А камердир, особо выработанным чутьем улавливая и замечая столь лестное для себя перешептывание, еще горделивее тянул ввысь свою могучую голову, словно его на кол насадили, и, сморщив губы и нос наподобие нерешительного дипломата, замирал, думая про себя: «Ну, вылупились как баран на новые ворота! Да и есть на что посмотреть…» Однажды он в самом деле приехал в село в мантии, обшитой золотым гайтаном и серебряной бахромой. Никто не понял, что бы могло значить это одеяние. Одни утверждали, что такую мантию носит епископ. Другие говорили иное, третьи предполагали свое. Наконец церковный служка, старик, древний, как сама земля, пробавлявшийся тем, что лечил больных, обожравшейся чем-нибудь скотине голыми руками пускал кровь, плюнул в сердцах, вынул изо рта свою трубку и изрек: «Побойтесь бога! Такие мантии надевают великие жупаны, когда открывают скупштины. Юрич высоко метит!»

Талант Николая Васильевича Гоголя поистине многогранен и монументален: он одновременно реалист, мистик, романтик, сатирик, драматург-новатор, создатель своего собственного литературного направления и уникального метода. По словам Владимира Набокова, «проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна». Читая произведения этого выдающегося писателя XIX века, мы действительно понимаем, что они словно бы не принадлежат нашему миру, привычному нам пространству. В настоящее издание вошли все шедевры мастера, так что читатель может еще раз убедиться, насколько разнообразен и неповторим Гоголь и насколько мощно его влияние на развитие русской литературы.
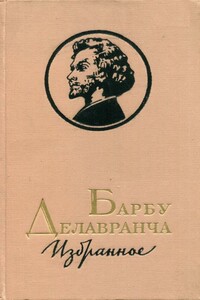
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
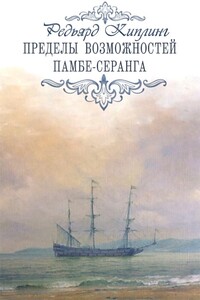
«Когда вы узнаете все обстоятельства дела, то сами согласитесь, что он не мог поступить иначе. И всё же Памбе-серанг был приговорен к смерти через повешение и умер на виселице…».

В книгу вошли стихотворения английских поэтов эпохи королевы Виктории (XIX век). Всего 57 поэтов, разных по стилю, школам, мировоззрению, таланту и, наконец, по их значению в истории английской литературы. Их творчество представляет собой непрерывный процесс развития английской поэзии, начиная с эпохи Возрождения, и особенно заметный в исключительно важной для всех поэтических душ теме – теме любви. В этой книге читатель встретит и знакомые имена: Уильям Блейк, Джордж Байрон, Перси Биши Шелли, Уильям Вордсворт, Джон Китс, Роберт Браунинг, Альфред Теннисон, Алджернон Чарльз Суинбёрн, Данте Габриэль Россетти, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд, а также поэтов малознакомых или незнакомых совсем.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.