В молчании - [6]
§ 7. Заново
– Сидеть в темноте?
– Да.
– Но что за шум?
– Море. Или чей-то плач. Может быть – и то и другое. Или что-то еще.
– Его почти не слышно.
– Здесь.
– Дрожь затихшей воды.
– Обрывки нечаянно начатых фраз.
– Их разделенность, их безропотная разлука.
– Рябь отражений.
– Глубь забвения.
– Неспокойное, почти грозное молчание.
– Его замшелые холодные своды.
– Его рдеющие изломы.
– Безупречное, изысканное.
– Тягостное и будоражащее.
– Благословенно-скверное.
– Однообразное, не повторяющееся.
– Скучное.
– Бесценное.
– И все же такое непрочное.
– Как раз хрупкость и придает ему сил.
– Если это силы.
– Если это хрупкость.
– Если это молчание.
– Если это правда.
– Если это хоть что-то.
– Пусть даже непостижимый вымысел.
– Да.
– Близорукие не могут разглядеть звезд, но не жалеют об этом.
– Точно так же дальнозоркие относятся к буквам.
– Потому что не до конца понимают разницы между далеким и близким.
– Предчувствуют, что черное небо и белый лист как-то связаны в своей неясности.
– Мы перескакиваем с одного на другое. Или вернее – перескакиваем с одного на одно и то же.
– Не страшно. То есть – не страшнее, чем что-либо другое. Или еще точнее – чем что-либо одно.
– Главное – не подпускать слова.
– Хотя бы не произносить их вслух.
– Пауза.
– Но где он на этот раз?
– На острове, как и всегда.
– Все еще? Но почему именно здесь?
– Не объясняется.
– А что это перед ним?
– Тусклая мга; прохлада непроговоренных слов; пелена; бело-прозрачные остовы; бледная завеса. Все – вполголоса.
– К чему эти бесконечные ответы?
– К счастью.
– К счастью?..
– Не важно.
– Так ищешь в сумерках что-то, имеющее огромное, может быть – решающее значение, но именно из-за сгущающейся темноты никогда не можешь найти. Разумеется, заранее знаешь об этом.
– Едва отыскав – выбрасываешь.
– Странное ощущение. Словно болезненный поцелуй с полузакрытыми глазами.
– Словно еще один провал. Сколько их будет?
– Бесконечно много. В этом почти можно быть уверенным. Все состоит из них.
– Волны. Их затягивающиеся петли.
– Их золотистая беспенность.
– Если, конечно, она принадлежит им.
– Гнилые сучья, красный мох, ящерицы, черепахи, трава.
– Долгообразное скуление ветра.
– Его разлитость, его неравномерный зной.
– Темно-бурые водоросли, горький смрад.
– Вся эта беспечно-равнодушная тарабарщина. Весь этот притихший смех. Все это.
– И наши неслышные голоса.
– И еще неподражаемость, неприступное величие расплесканной в воздухе скуки.
– Зачарованность ее равнодушной нежностью.
– Без коротания времени.
– Без излишнего гнета.
– Да.
– Без насыщения.
– Конечно.
– Скрипы и шорохи.
– Вполне может быть. Нет, не знаю.
– Лишь что-то в нас, вновь и вновь возвращающееся помимо нашей воли.
– В нас?
– Уверенность больше нельзя отличить от сомнения.
– Наконец-то.
– Что-то, что открывается как легкая тягота, как пугливое восхищение.
– Как спускающаяся по щеке беспечная и неторопливая кровь.
– Ее неприметный, тонкий шорох.
– Похожий на шелест длинной полупрозрачной вуали.
– Ее колыхание. Ее извечно-алое раздваивание.
– И врезающиеся в него мысли.
– Вкрадчивое, лукавое тиканье струящихся секунд (стрелки часов – как ломкие ресницы).
– Покачивания того, что никогда не произойдет.
– Темнота. Ее изгибы.
– Вещи, почти лишенные облика, но еще сохраняющие приметы обманчивого сходства с самими собой.
– Но что же кажется самым удивительным?
– То, что бесчувственность оборачивается слезами. То, что в отрешенности раскрывается неукротимая влюбленность. То, что в конце концов она даже может превратиться в нечто вроде автобиографии. То, что это возможно.
– Но когда начнется то, что обычно именуют памятью?
– Очень скоро. Ждать осталось недолго – всего несколько лет, не больше.
– Внезапно – необузданная, неуместная, дикая, предельная радость.
– Но и таинственная скука.
– Наверное. Но только иногда. Если это подходящее слово.
– Когда-нибудь все это прервется, как обрывается кошмар или веселье.
– Но может ли «прерваться» безумие?
– Да. Наверное, да. Не знаю.
– Останется шуршание камней.
– Словно развевающиеся, вернее – развеивающиеся обрывки.
– Чего – ужаса, радости, покоя?.. Только не нужно отвечать.
– И опять матово-золотистые волны. Их перекаты, их преломления, их эхо.
– Гулкие всплески мира.
– Текучее, переливчатое чудо.
– Этого будет достаточно.
– Могла бы эта жизнь быть другой?
– Была бы та другая жизнью?
– Что значит быть другой? Что значит быть жизнью?
– Почему нужно разыскивать это?
– А расскажите… Нет, не смогу спросить.
– Вы просто забыли: об этом уже молчалось.
§ 8. Безмолвно
Да. Еще раньше. В дрожащей дали, на которую смотрю сквозь дым костра и горящие лоскуты. Трескучий гомон, где сгорают последние лохмотья воспоминаний. Сижу в узкой пазухе между замшелым забором и спиной сарая, рискуя оцарапаться о торчащие из досок гвозди. Никому не пришло в голову их загнуть. Наверное, даже не могла зародиться мысль, что кто-то зайдет сюда и притаится в темной трухе. Но все-таки проем оставили. Как необходимую пустоту. А может быть, все наоборот, и эти шипы с самого начала призваны были выполнять роль отпугивающих стражей – второго эшелона, младших братьев ползущей по забору колючей проволоки. Странно, правда, пугать того, кто подходит к забору изнутри. Что ж, ржавые иглы вот-вот дотянутся до разбитых коленок, осталось лишь подождать несколько секунд. Кажется, они удлиняются прямо на глазах, да – вырастают, норовят уколоть. Но так и не дотягиваются. Нет, они не страшнее сидящей на цепи собаки. На земле какие-то помятые пробки, слипшаяся пакля, банки, змеящиеся пружины, бесконечные осколки и рухлядь. Может быть, проем сохранили лишь как запасной рукав заднего двора, почти целиком заваленного старыми корытами, битым стеклом, прохудившимися ведрами, обрезками труб и досок – этим год от года разрастающимся хламом. А тут, у забора, все еще вполне хватает места, чтобы спрятаться, и потому я с радостью перелезаю через бесформенные завалы, чтобы снова оказаться в неуютном убежище, готовом в любой миг раскрошиться и пропасть. Почему-то здесь, среди оскаленных гвоздями стен, где ясно ощущалась чуждость окружающим предметам, внутри тела обнаруживалось необъяснимое ощущение покоя. Ничего дружелюбного, ничего интересного – нет никакой возможности объяснить, чем притягивали эти сумрачные задворки, украшенные худыми, колкими прядями ржавой проволоки. И стена, и забор выкрашены в однотонный кисло-травяной цвет. Наверняка их обезобразили в один день и уж точно ни разу не перекрашивали с тех пор, ну или, может быть, лишь однажды. Все размылось и потрескалось, пришло в негодность. Но и окуталось той несравненной, очаровывающей паутиной тишины, бесподобной ветхости, какая возможна только на старых дачах, овеянных земляной золой и ароматом переспелых, словно загодя начиненных медом яблок. Тихо-тихо – так скажет потом (гораздо, гораздо позже) мой двухлетний сын. Наверное, эта тишина и будет лучшим ответом. В ней тонут даже далекие петушиные крики и гулкое эхо поездов. Она плотно обволакивает старые цветники, покосившиеся ступени, засыпанную сухими листьями беседку, поникшие гортензии, облепиху и лиственницы. Ни одна городская квартира не способна впитать столько воспоминаний. Квартира как будто заранее оказывается чем-то кочевым, чем-то, что скоро исчезнет. А в этом доме каждый закуток знает что-то о моей жизни, каждое дерево, каждая постройка на заросшем травой участке. Сарай сколочен из старых дверей. Они почти вплотную пришиты друг к другу, как множество заплаток на отсутствующей ткани. И все же кажется, что можно приоткрыть одну из них. Или даже все по очереди. Я не раз пробовал – ни одна не поддается. Может быть, потому что нет дверных ручек. Или просто не знаю какого-то тайного шифра. Хотя зачем заходить внутрь, если и так известно, что в темноте нет ничего, кроме поломанных инструментов и прочего старья. Нет, что-то сохранилось. Порой я забываю, что уже не раз говорил об этом неказистом строении, почему-то рассказ о нем не надоедает начинать заново. Никогда не смогу забыть эти ряды ящичков с неразборчивыми надписями. Казалось, написанные слова опали серой шелухой, и на их месте остались лишь контуры букв. Для того чтобы понять смысл ярлыков, всегда нужно было сперва увидеть содержимое задвинутых в стены коробочек. И тогда неясные каракули, казавшиеся иностранным или даже несуществующим языком, оборачивались знакомыми, простыми названиями: «молотки», «сверла», «гвозди». Правда, потом, с годами все смешивалось, и смысл табличек безвозвратно утрачивался. В ячейку, предназначенную для отверток, падали напильники и плоскогубцы, в банке с гвоздями обнаруживались шурупы, рассыпанные спички или даже невесть откуда попавшие туда зубочистки. Почему-то представлялось, что однажды на месте всего этого обнаружатся изъеденные мышами карточки с описью пропавших предметов. Да, я почти чувствовал себя посетителем заброшенной библиотеки, на полках которой от книг остались лишь остовы обложек, обрывки заголовков, не годившиеся даже на роль каталожных карточек. В самих ящиках что-то заедало, они с трудом задвигались на место и в конце концов так и повисали над головой выступающими, необломанными зубьями. Со временем этот архив, как и положено, увяз в бездействии и мог претендовать разве что на роль декоративного обрамления для коллекции полуполоманной садовой утвари. Путаный реестр, лишившийся не только привязки к алфавиту (ее, разумеется, не было), но даже самой потребности в упорядочивании. Конечно, можно надеяться на то, что когда-нибудь все будет исправлено, расставлено по своим местам, может быть даже, на ящиках появятся новые ярлычки с разборчивыми словами. Кстати, какие-то потуги на это упорядочивание возникают и сейчас. Но отчего-то они не вызывают доверия. Почему-то вера в разруху крепче. Даже самый незыблемый порядок украдкой осознаёт, что достаточно одного мгновения, малейшей случайности, чтобы рухнули стены смысла, чтобы сверкающие зеркала и золотые рамы рассыпались в труху, мелким подвидом которой, пусть и неловко это признавать, они всегда являлись. Здесь – как нигде еще – оказывается ясным, что неразбериха важнее порядка. Может быть, само желание заслонить путаницу мнимой организованностью происходит от неумения освоиться в беспорядке. Точно так же в комнатах старого дома каждая вещь покрывается пушистой прозрачной шерстью уже через мгновение после уборки. Эта мебель с рождения погружена в ветхий бархат, эти ковры бесполезно выбивать, эти зеркала противятся блеску. Нет, я никогда не мог понять, что будет вернее – поскорее сбежать от этой пыли, клоаки, липких досок и недомытой посуды или навсегда отдаться счастливому бездействию. Не знал даже, как эти противоположные желания могли столь свободно перетекать друг в друга. Священный миф и невыносимый хлам смешивались до неразличимости. Сбегал и возвращался (словно убийца на место преступления). Так есть ли разница, с какой стороны вступать в эту мягкую ветхость детства – через так называемый парадный вход или сквозь еще не открытый потайной лаз, если босые ноги, ступив на земляной пол, все равно окутаются серым холодным песком, а нос защекочет пыль? Да, чуть не забыл. Там было и окно. Но снаружи оно испокон веков было наглухо забито досками, крашенными в тот же обязательный цвет жухлой травы. Изнутри, по краям мутного, чудом не давшего ни одной трещины стекла невесть зачем были прилажены занавески. Побледнев от времени, едва приметные в темноте, они застыли в какой-то жалобной позе, как пыльные фартуки негодной, забросившей хозяйство, может даже, давно сгинувшей в небытии стряпухи. Так, наверное, выглядят платья потерянных кукол, оброненных в дорожную пыль. Пробраться через окно, разомкнув раму и раздвинув зольные шторы, – это был, пожалуй, самый легкий и потому не способный устроить меня путь. Нет, стены-двери наверняка никак не связаны с окном, ведут куда-то еще. Не сюда. Не сюда. Но, может быть, их нужно попробовать открыть не снаружи, а изнутри. И окажется, что попадешь на другую, незнакомую сторону – туда, где, кто знает, нет даже разделения на порядок и неразбериху, где они не противоречат друг другу. Двери. Сколько раз я безуспешно пытался сосчитать их. Сколько раз я рассказывал о них. К счастью, никто не помнит этих повествований. Может быть, все они должны открываться в разные стороны. Или же за ними окажутся длинные коридоры, а за коридорами – новые двери. Главное – открыть эти, первые неприступные створки. В конце концов, на некоторых даже были ржавые замочные скважины (прошли годы, а я так и не смог избавиться от навязчивого образа). Каково же было мое потрясение, когда в полустертых буквах, нацарапанных на одном из ящичков, я впервые распознал слово «ключи». Кажется, то – первое – изумление не прошло и сейчас. Я вновь и вновь разочаровываюсь, находя в сонных закоулках прошлого в лучшем случае гаечные и разводные. И никогда – того, что мне так нужен. Истертого, погнутого, неказистого – его по-прежнему нет. Опять выхожу наружу. Толкаю каждую из них с обратной стороны. Тоже не поддаются. Все-таки до крови прорезаю руку об один из гвоздяных когтей. Яркая рельефная точка зажигается на позеленелой доске. Как земляника, нанизанная на травинку (этих диких ягод так много на поляне за баней, целые заросли). В конце концов устаю (хотя и не совсем отказываюсь) от этой затеи и залезаю на крышу. Только благодаря возрасту не проламываю хлипкой кровли (сейчас подобная авантюра не придет в голову). Бороздки потрескавшегося, замшелого шифера засыпаны подгнившей листвой, шишками, сосновыми иголками. И еще почернелыми косточками от вишен, которыми я лакомился здесь несколько недель назад. Если поднять всю эту труху, столкнуть вниз, на шершавой серой складке останется мокрый, темный след. Почти такой же, как на поверхности моей памяти. Почти такой же. Подолгу лежал на крыше. Наблюдал. Ничего осмысленного. Закрывал глаза. Слушал стук дятла и какие-то далекие звуки. Хрип собак, гулкий шум электричек, шевеление листьев, странный тягучий свист на другом конце света. Все эти причудливые разновидности тишины. Голоса насекомых и еще – странные обрывки мелодии, какого-то пения, похожего на незаметную, робкую улыбку. Никогда не мог понять, что это. Воздух, опустошенный нескончаемым щебетом. Закрывал. Глаза. Потом снова подолгу смотрел на сияющие в сизой дали березы и сосны, на их широкие ветки и покачивающиеся, кивающие верхушки. Сверкающие, почти не отделенные от ослепительного неба и облаков, прогретых невидимыми лучами. Никуда не спешил. Тонул в завалах едва слышных призвуков, почти не скапливавшихся в воспоминания, – уже привычных, но еще не способных превратиться в архив. Кажется, все происходило у самых порогов речи – до того рубежа, где слова начинают становиться зримыми и большими. Может быть, именно это безречное дуновение и есть язык. Но почему-то только о том смутном времени, когда сознание себя еще почти не существовало, оказывается возможным писать в первом лице. Я думал, что двери тайны должны остаться закрытыми. Выход не будет избавлением. Как и спасение не станет выходом. Четкое, неоспоримое предощущение: как только заветная цель покажется – нельзя направляться в ее сторону. Ни в коем случае. Да, как-то так: мечтал об этом больше всего на свете, вот наконец это стало возможным, и потому не стану приближаться, не сделаю ни шага навстречу, почему-то отвернусь от самого важного. Отвернуться будет важнее. Разрушить то, что обнаружило малейшую примесь успеха. Так пусть ключ выскальзывает из рук, пускай падает в песчаную пыль, как ненужная, надоевшая игрушка. Забудем о нем. Все равно настоящий доступ в темные полости прошлого, в этот тесный чулан всегда будет закрыт. Лежал на крыше. Рассматривал проступавшее сквозь рыже-зеленые иголки небо. Запах влажной хвои, смолы, мха и почему-то – мяты, растущей на другом конце участка. Переворачивался на живот. Всматривался в непроглядные сплетения. Различал за ними рыже-бурые бревна стены, выбеленные окна второго этажа. Одно – то, что на веранде, – распахнуто. Теплый ветер подметает цитадель моего безделья. Ниже, за гигантскими кустами жасмина и сирени уже ничего не разглядеть. Крыльца не видно, но я и так, даже с закрытыми глазами узнаю два столбика, поддерживавших гладкие перила, их облупившуюся, словно старая кора, краску. И пять высоких ступенек, мои ноги легко угадают их и спустя десятилетия: столько раз сбегал и поднимался по ним, прислушиваясь к протяжному древесному скрипу, только нижняя – каменная, покрытая неясными пятнами-кругами, похожими на годичные кольца давно срубленных стволов, принадлежавших крохотным игрушечным деревцам. Свет, пробивающийся сквозь заросли. Я все еще его помню. И ландыши – их столько, что можно бегать босиком по вытянутым листам и белым точкам цветков, не боясь затоптать их (это невозможно). Наконец, где-то в глубине деревьев, в зияющем просвете между дубовыми и березовыми листьями замечал седину. Это мой дед, занятый своими делами. Окликает бабушку, занятую на кухне; она опять разбирает какую-то свою посуду, банки, коробки. Со временем доносится и ответ: «Сейчас! Только все доскладу!» Но кажется, она сама понимает, что обещание невыполнимо. Никогда не выйдет ничего доскласть, потому что даже само это нелепое слово, оставив лишь след восклицательного знака, едва успев произнестись, размельчается на мелкие осколки, как разбившаяся об пол керамическая плошка или солонка, и становится одним из тех бесчисленных предметов, которые непременно нужно досложить, связать, соединить, но уже никогда не удастся. Наверное, дед лучше догадывается об этом, потому что опять скрывается в зеленых зарослях. Может быть, он скоро позовет и меня. Или так и будет вечно увлечен чем-то своим. Он и сейчас, спустя многие десятилетия, все еще там. Единственный хранитель каталожного шифра, впрочем, давно успевший позабыть его. Поредевшая седина все так же мелькает за ветками высоких яблонь – у террасы, обвитой замшелыми эполетами винограда и клематиса, рядом с черными досками, которые все так же свалены там, у дровника, наполненного запахом свежих щепок и давней сырой трухи. Невероятно. Нет, здесь нельзя ничего менять. Я не уверен ни в чем, кроме этого постоянства. Все равно не хватит никаких сил, чтобы разрушить легенду. Пусть поменяется потом, после меня. Пусть кто-нибудь еще снесет старый дом. У забора колышутся деревья и сразу за ними – огромное поле, с обратной стороны которого еще одна упирающаяся в облака аллея. Каждый вечер там садилось, будет садиться солнце. И сегодня оно точно так же отражается в придорожных лужах. Пунцовые лучи, тянущиеся сквозь березовые ветки. Откуда-то эта прочная несобранность, эта ветхая выспренность, священно-безалаберная бессвязность. Бесконечно долго смотреть. Без понимания. Только тайна, только ее открытость. Рассматривал цветы и как будто проживал вместе с ними их белое цветение. Внезапно все исчезало. Мир имел странную способность удалять из себя предметы, превращаться в незаполненную залу. Есть в этом что-то от беспечного полувзгляда детей. Когда мы молча умоляем их простить нас, а они просто закрывают глаза и засыпают. Кажется, именно тогда я впервые почувствовал что-то, что через много лет буду вспоминать как любовь. Спускаться, спотыкаясь о корни, бежать еще глубже в лес. В журчащее разноречье птиц, ветра, ос и листвы. В тихие сверкания смолы. Мельком замечать среди всеобщей зелени выстреливающие малиновой краской стебельки ревеня. Сразу же вспоминаю приятно-кисловатый вкус его листьев. Отворять накренившуюся калитку, запертую на старый гвоздь. Отродясь никаких замков, даже шпингалетов, только эта толстая спица на желтоватой бечевке, завязанной несуразным узлом. Привычным движением вырывать длинный гвоздь из проржавелых полукруглых петель. И так же быстро возвращать на место – с той стороны калитки, поднимаясь на цыпочки, но попадая в лунку с первого раза. Не думать о том, что еще минуту назад боялся оцарапаться, но все же поранился о почти такой же. Враги и союзники узнаются как-то сами собой. Несмотря на их свойство меняться местами. Увертываясь от объятий ежевики и крапивы, мчаться по перечеркнутым корнями дорожкам, по которым когда-то мы с дедом каждое утро перед завтраком катались на велосипедах, по песчаным просекам. Совсем не помню наших тогдашних разговоров (а может, их и не было), только сам восторг от этих ежедневных прогулок. Потом еще дальше – пробираться на ощупь по заросшим, несуществующим тропинкам. Бежать, не слыша больше ни звука. Кроме разве что ветра. Деревья начинали расступаться и снова теснились за спиной, едва я успевал миновать их. Наконец пауза. Наконец упасть на траву у красных стволов и замолкнуть. Целые часы затишья. В лесу, где ничто не различимо. Лес, как и море, способен вплотную приблизить к самой первой тишине. Молчание стало непрестанной молитвой. Как будто через немоту получил возможность соприкосновения с миром. Как будто слияние было возможно только в языке тишины, никак иначе. Как будто речь обдавала холодом горло. Как будто каждое слово сокращало жизнь. Зная, что это бессмысленно, зачем-то пытался запомнить молчание, записать его в памяти. Высвечивалось что-то другое, никогда не сама тишина. Ее нельзя было ни нарисовать, ни пропеть, ни записать. Больше не буду пытаться. Обещаю. И опять обманываю, опять вырисовываю ноты и слова. Нет, это будет огромный забор, камни, скалы, которые я воздвигну вокруг себя. Больше до меня не достучаться, не докричаться, как нельзя дозваться ребенка в утробе. Нет, не совсем так. Даже совсем не так. Хромые, негодные сравнения. Оставить их. Просто никогда не произносить ни звука. Забыть, стереть все. Никакой ненужной болтовни. Никакой памяти. Забыть в молчании все. Ни рисунков, ни фотографий, ни записей. Никакой иной памяти. По правде сказать, сколько-нибудь продолжительное прошлое еще и не успело тогда скопиться. Только я еще этого не осознавал. Как будто в воспоминаниях еще не было нужды. Когда прошлого толком нет, от него легко отрекаться. Потом оно просто перестает обращать внимание на твои отказы. И все же окунаться в океан. Укутываться в тишину, как укрываются в слова. Быть в молчании. В самом его центре, согреваться его ветром. Присутствовать при начале мира, при всем, что может быть сказано. Звери и птицы не умеют молчать. Природа не умеет молчать. Лишь затихает на время. А я замолчу. Замолчу навсегда. Забью рот землей. Да. Вам не заставить меня заговорить. Я не оскверню мир болтовней. Вы не добьетесь ни правды, ни лжи. Допрос потеряет всякий смысл. Да. Но эти клятвы, как и любые другие, легче давать, чем исполнять. Увы, словоотсутствие в любой момент может прерваться, будет не раз прерываться, собственно говоря – от человека тут мало что зависит, я еще об этом не знаю и наброшусь с кулаками на любого, кто посмеет сказать такое (конечно, этих людей не будет). Так продолжал лежать под внезапным дождем, в раскатистой тишине, заполненной непроизнесенными словами, неслышным свистом вечерней флейты. Зачем-то держась пальцами за длинные, кривые корни, словно боясь быть смытым. Насквозь промокал. Потом дождь прерывался. В далеком эхе кукушки почти переставало слышаться слово «скука». Смыкающиеся под небом ветви образовывали своды, арки, бесконечные зеленые анфилады. И снова крупинки били по листьям, как по клавишам старого рояля. Шелест немой, околдовывающей музыки. Слушать ее. Вдали от холода речи. В безымянной толпе. Среди полупрозрачных призраков. Под бесконечным дождем. Ничего. Кроме плача. Лучащаяся тишина. В серебристых разломах. Тягучая, вязкая, как невидимый мед.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В мире, где даже прошлое, не говоря уже о настоящем, постоянно ускользает и рассыпается, ретроспективное зрение больше не кажется единственным способом рассказать историю. Роман Анатолия Рясова написан в будущем времени и будто создается на глазах у читателя, делая его соучастником авторского замысла. Герой книги, провинциальный литератор Петя, отправляется на поезде в Москву, а уготованный ему путь проходит сквозь всю русскую литературу от Карамзина и Радищева до Набокова и Ерофеева. Реальность, которая утопает в метафорах и конструируется на ходу, ненадежный рассказчик и особые отношения автора и героя лишают роман всякой предопределенности.
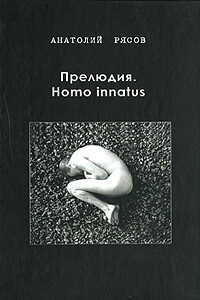
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…
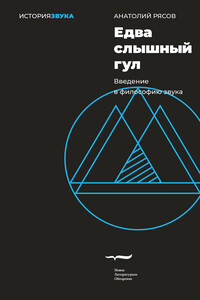
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

А что, если начать с принятия всех возможностей, которые предлагаются? Ведь то место, где ты сейчас, оказалось единственным из всех для получения опыта, чтобы успеть его испытать, как некий знак. А что, если этим знаком окажется эта книга, мой дорогой друг? Возможно, ей суждено стать открытием, позволяющим вспомнить себя таким, каким хотел стать на самом деле. Но помни, мой читатель, она не руководит твоими поступками и убеждённостью, книга просто предлагает свой дар — свободу познания и выбора…

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

За что вы любите лето? Не спешите, подумайте! Если уже промелькнуло несколько картинок, значит, пора вам познакомиться с данной книгой. Это история одного лета, в которой есть жизнь, есть выбор, соленый воздух, вино и море. Боль отношений, превратившихся в искреннюю неподдельную любовь. Честность людей, не стесняющихся правды собственной жизни. И алкоголь, придающий легкости каждому дню. Хотите знать, как прощаются с летом те, кто безумно влюблен в него?