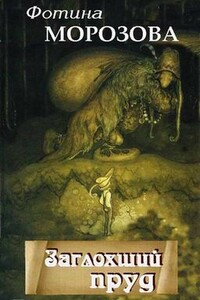«На этом ноже нет моих отпечатков», — сказала себе Соня.
Как будто это было главное…
Илья громоздился внушительной горкой плоти, ещё не начавшей остывать. Выражение лица — как у Шушки, когда тот чего-то испугается. Толстенький беззащитный животик. Раскинутые ляжки. Меж ляжек под тесными брюками, мокро темнеющими в промежности, обрисовывается съёженный, предсмертно поджатый орган, который так часто объединял супругов, когда всё остальное не предоставляло поводов для единения.
— Ой, — громко сказала Соня, как в детстве, когда ей случалось сломать игрушку, и она звала взрослых, чтобы они всё исправили. — Ой, — повторяла она, — ой, вой, вой, во-о-ой, — всё острее, всё больнее, всё прикушеннее понимая, что никто не поможет и никто уже ничего не исправит. И тогда она замолчала — потому что в целом мире не осталось взрослых, которые бы откликнулись на её жалобу. Тени спрятались. Электрический свет, дотошный, как следователь прокуратуры, изучал кровь, похожую на жидкий осадок из винегрета.
Сонины пальцы с бледными ногтями вцепились в волосы. Спустились вниз по лицу, оставляя царапины на щеках.
В комнату вошёл их сын. Спотыкаясь, в пижамке, тёплый, разбуженный. То, что папа решил полежать на полу с ножом в груди, его не взволновало: в таком возрасте ещё не верят, что родители способны умереть. Шушкино внимание привлекло коричневое пахучее пятно, расползающееся по светлым папиным брюкам. Для маленького Шушки не было секретом, что такие пятна значат.
— А папа обкакался! — объявил Шушка. — Мам, мы его помоем и переоденем, да?