Творческая эволюция - [5]
На страницах "Творческой эволюции" разворачивается картина Вселенной, радикально отличная от той, которую предлагал позитивизм и позитивистски ориентированная наука. Видение мира с точки зрения его временности (историчности), целостности (в форме органицизма) и динамизма остается здесь основным внутренним ориентиром Бергсона. Эти принципы, проводившиеся Бергсоном в ранних работах, распространены теперь на мир в целом, на весь космос. Уже не только человеческое сознание есть, по сути своей, длительность; вся "Вселенная длится". Это и есть наиболее емкое выражение в "Творческой эволюции" первой установки. Бергсон вводит время, длительность в саму основу мира, и мир становится динамичным, творческим, непрестанно развивающимся – и живым. Как образно описывает это Бергсон, "реальная длительность въедается в вещи и оставляет на них отпечаток своих зубов". Он неоднократно проводит аналогию между эволюцией органического мира и эволюцией сознания; все те характеристики, которыми в ранних работах была наделена длительность: творчество, изобретение, непредвидимость будущего и др. – теперь переносятся на процесс развития мира в целом. Ведущей же идеей при описании эволюции становится представление о жизненном порыве. Собственно говоря, само это представление появляется совершенно так же, как в "Опыте о непосредственных данных сознания" возник образ длительности: погружаясь в свое сознание, человек постигает свое глубинное родство с окружающим миром, с реальностью, с которой он слит и которая, как и он сам, длится. Человек ощущает себя частью этого могучего порыва жизни; вещи вокруг него словно срываются со своих привычных, устойчивых мест; вообще нет больше никаких вещей (и здесь вновь звучат мотивы "Материи и памяти"), а есть непрерывный поток жизни, увлекающий все в своем грандиозном движении.
Уточняя свою позицию, Бергсон писал в цитированном выше письме к X. Гёффдингу: "Главный аргумент, который я выдвигаю против механицизма в биологии, – то, что он не объясняет, каким образом жизнь развертывается в своей истории, то есть последовательности, где нет повторения, где каждый момент уникален и несет в себе образ всего прошлого. Эта идея уже находит признание у некоторых биологов, как бы плохо ни были настроены в отношении витализма биологи в целом... Вообще говоря, тот, кто овладел интуицией длительности, никогда больше не сможет поверить в универсальный механицизм; ибо в механистической гипотезе реальное время становится бесполезным и даже невозможным". В этом и заключено одно из наиболее существенных отличий картин мира Бергсона и Плотина. У Бергсона сам жизненный порыв разворачивается во времени; время – это не то, что, как у Платона в "Тимее" или у Плотина, может быть преодолено, что свойственно лишь низшим сферам бытия. Плотиновская "конверсия", восхождение к Единому, выводит за пределы временности, в область вечного, неизменного, представлявшегося выражением высшего совершенства. У Бергсона же время, длительность – неотъемлемая внутренняя суть бытия, как и сознания; процесс творческой эволюции мира, выражаемый метафорой жизненного порыва, – невозможен вне времени.
Динамический образ мира складывается в "Творческой эволюции" в описании напряженного взаимодействия двух сил – жизненного порыва и материи. Собственно говоря, это два разнонаправленных процесса: жизненный порыв движется вверх, это подъем, материя же – спуск, падение. "В действительности жизнь есть движение, материальность есть обратное движение, и каждое из этих движений является простым; материя, формирующая мир, есть неделимый поток, неделима также жизнь, которая пронизывает материю, вырезая в ней живые существа. Второй из этих потоков идет против первого, но первый все же получает нечто от второго: поэтому между ними возникает modus vivendi, который и есть организация". Материальные предметы представляют собой определенные "отложения" жизненного порыва: в тех пунктах, где напряжение первичного импульса ослабело, – интенсивное стало экстенсивным, временное превратилось в протяженное, длительность в пространство. (Эту проблему соотношения экстенсивности и напряжения Бергсон ставил еще в "Материи и памяти"; дальнейшее развитие эта идея получила в "Творческой эволюции".) Те линии эволюционного развития, на которых сопротивление материи пересиливает, становятся тупиковыми; развитие на них сменяется регрессом, превращается в круговорот. В идее взаимодействия жизненного порыва с материей также сказывается влияние Плотина. Как у Плотина, идеал, по Бергсону, лежит позади: гармония мира существовала вначале; нельзя сказать, как это делает телеология в ее классической форме, что мир стремится к гармонии как к цели. Но плотиновское Единое, однако, ничего не теряет в процессе нисхождения в чувственный мир, оставаясь вечно тем же и равным самому себе.
Витализм, проявившийся в концепции Бергсона, далек от его традиционных форм, приписывавших каждому индивиду собственное "жизненное начало" – источник внутреннего изменения и развития. Бергсон рассматривает жизненный порыв как начало жизни в целом, как первичный импульс, породивший бесконечное множество эволюционных линий, большинство из которых оказались тупиковыми. Жизнь, пишет Бергсон, образно передавая свою "исходную интуицию", можно сравнить не с ядром, пущенным из пушки, но с гранатой, внезапно разорвавшейся на части, которые, в свою очередь, также раскололись на части, и процесс этот продолжался в течение долгого времени. Жизнь шла путем не конвергенции и ассоциации, но дивергенции и диссоциации, причем прогресс происходил лишь на нескольких линиях, одна из которых и привела к человеку. На параллельных линиях возник животный и растительный мир.
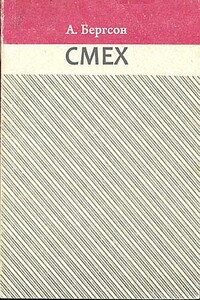
Книга «Смех» (1900) — единственный собственно эстетический труд крупнейшего французского философа А. Бергсона. Обращаясь к обширной области смешного в жизни и комического в искусстве, он вместе с тем дает глубокий анализ главнейших философских проблем: сущность человека, взаимосвязь индивидуального и социального, единичного и типического; природа художественного творчества и специфика эстетического восприятия. Ключ к разгадке проблемы комического он видел в разработанном им учении об эстетическом.Для специалистов-философов, эстетиков, искусствоведов, а также читателей, интересующихся вопросами теории искусства и истории эстетики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
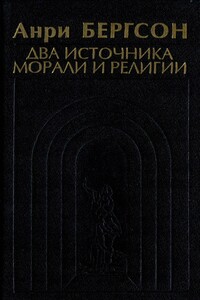
Бергсон А."Два источника морали и религии"«Два источника морали и религии» — это последняя книга выдающегося французского философа-интуитивиста Анри Бергсона (1859–1941). После «Творческой эволюции» — это самое знаменитое его произведение, которое впервые переводится на русский язык. В этой книге впервые разрабатываются идеи закрытого и открытого общества, закрытой и открытой морали, статической и динамической религии. Автор развивает поразительно глубокие, оригинальные и пророческие мысли о демократии, справедливости, об опасностях, которые подстерегают человечество, и о том выборе, который предстоит ему сделать.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.