Творческая эволюция - [2]
"Творческую эволюцию" трудно понять, не зная предшествующих работ Бергсона. Многое в самом ходе мысли Бергсона, в применяемой им методологии окажется неясным, так как и содержательная, и методологическая сторона были разработаны им в "Опыте о непосредственных данных сознания" и в "Материи и памяти". Не случайно в "Творческой эволюции" Бергсон постоянно возвращается к выводам прежних трудов, делает обзор их основных идей. Поэтому мы кратко остановимся на тех из них, которые, на наш взгляд, проясняют смысл его последующей философской деятельности и особенно важны для понимания "Творческой эволюции".
В обеих первых крупных работах Бергсон использует один и тот же метод: путем детального, скрупулезного исследования традиционных психологических установок стремится показать, что за ними скрывается на самом деле, извлечь скрытую под ними реальность. Почему человек именно так воспринимает окружающий мир, именно таким видит самого себя? Вопрос о том, почему сознание человека "устроено" именно так, а не иначе, ставится Бергсоном уже в "Опыте". Постепенно он все больше углубляет его, открывая с каждой работой все новые пласты анализа. Попутно, в статьях, составивших впоследствии два сборника – "Духовная энергия" (1919) и "Мысль и движущееся" (1934), он разрабатывает тот же круг проблем, часто рассматривая их применительно к конкретному материалу из области психологии, будь то сновидение, воспоминания или явление "déjà vu".
В мышлении Бергсона с самого начала были ведущими три основные взаимосвязанные установки, составившие целостный комплекс представлений и определившие специфику его мировосприятия. Это – историчность, динамизм, органицизм. Исходной для него была, как указывал он сам, "интуиция длительности" (впервые сформулированная в "Опыте о непосредственных данных сознания"), то особое понимание времени, которое и обусловило особенности его учения и место его в философии XX века. Понятие длительности – главное философское открытие Бергсона, на которое он постоянно опирался в дальнейших теоретических поисках. В письме Харальду Гёффдингу Бергсон писал, что рассматривает интуицию длительности как средоточие своего учения. "Представление о множественности "взаимопроникновения", полностью отличной от нумерической множественности, – представление о длительности гетерогенной, качественной, творческой, – вот пункт, из которого я вышел и к которому все время возвращаюсь. Оно требует от духа огромного усилия, разрушения множества рамок, чего-то вроде нового метода мышления (ибо непосредственное вовсе не есть то, что легче всего заметить). Но, придя однажды к этому представлению и овладев им в его простой форме (которую не следует смешивать с понятийной реконструкцией), чувствуешь необходимость изменения своей точки зрения на реальность".
Но длительность – сложное понятие, включающее в себя аспекты динамизма и органицизма. Сознание, глубинную суть которого составляет длительность, есть целостность, а не совокупность отдельных состояний. Сознание, каким оно предстало в ранних работах Бергсона, – континуально; это не просто поток представлений, ему присущ внутренний динамизм, напряженный ритм взаимопроникновения и взаимодействия, в процессе которого предшествующее, сложившееся живое целое организует свои элементы. Много раз на страницах "Опыта о непосредственных данных сознания" Бергсон пытается выразить свою исходную интуицию, привлекая для этого массу образов, часто из сферы музыки. Он хочет помочь читателю самому проделать этот опыт – на его взгляд, чрезвычайно важный, ведь он способен и полностью изменить представление человека о самом себе, и преодолеть массу заблуждений и иллюзий, накопленных прежней психологией и философией. Формы, посредством которых мы воспринимаем вещи, пишет Бергсон (заимствуя здесь кантовскую терминологию), несут на себе отпечаток взаимодействия с реальностью, определенным образом отражают внешний мир, а потому и затемняют наше понимание самих себя. "Формы, применяемые к вещам, не могут быть всецело нашим творением.., они проистекают из компромисса между материей и духом; если мы вносим в материю очень многое от нашего духа, то, в свою очередь, кое-что от нее и получаем, а потому, пытаясь вернуться к самим себе после экскурсии по внешнему миру, чувствуем себя связанными по рукам и ногам". Две выделенные Кантом формы созерцания – пространство и время – в нашем восприятии постоянно смешиваются. У Канта время было формой внутреннего созерцания, пространство – формой созерцания внешнего мира, но обе они позволяли человеку постичь лишь явления, феномены, а не собственную личность и не вещи как они есть сами по себе. Бергсон же полагает, что очищение идеи времени от пространственных наслоений и напластований позволит понять подлинную суть сознания. Очищение это он предлагает провести методом интроспекции, погружения в сознание с целью установления его первичных "фактов". Возврат к непосредственному, к фактам собственного сознания – вот, по Бергсону, путь человека к самому себе, путь к истинной философии. В наши обыденные представления о времени, пишет он, постоянно "контрабандой вторгается идея пространства". Мы представляем себе время как последовательность однородных состояний, как непрерывную линию, части которой "соприкасаются, но не проникают друг в друга". (Кант тоже не избежал этой ошибки, приняв время за однородную среду.) Если же попытаться удалить эти пространственные образы, спуститься от поверхностных уровней сознания (представляющего собой сложную, многоплановую и многоуровневую реальность) вглубь, то можно постичь иную временную последовательность: "Под однородной длительностью, этим экстенсивным символом истинной длительности, внимательный психологический анализ обнаруживает длительность, разнородные элементы которой взаимопроникают; под числовой множественностью состояний сознания – качественную множественность; под "я" с резко очерченными состояниями – "я", в котором последовательность предполагает слияние и организацию. Но мы по большей части довольствуемся первым "я", то есть тенью "я", отброшенной в пространство. Сознание, одержимое ненасытным желанием различать, заменяет реальность символом и видит ее лишь сквозь призму символов".
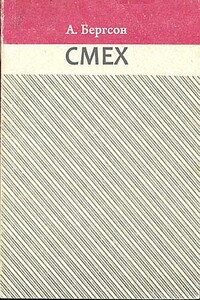
Книга «Смех» (1900) — единственный собственно эстетический труд крупнейшего французского философа А. Бергсона. Обращаясь к обширной области смешного в жизни и комического в искусстве, он вместе с тем дает глубокий анализ главнейших философских проблем: сущность человека, взаимосвязь индивидуального и социального, единичного и типического; природа художественного творчества и специфика эстетического восприятия. Ключ к разгадке проблемы комического он видел в разработанном им учении об эстетическом.Для специалистов-философов, эстетиков, искусствоведов, а также читателей, интересующихся вопросами теории искусства и истории эстетики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
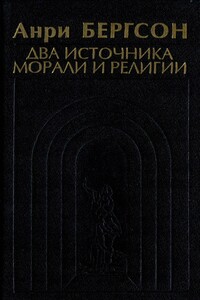
Бергсон А."Два источника морали и религии"«Два источника морали и религии» — это последняя книга выдающегося французского философа-интуитивиста Анри Бергсона (1859–1941). После «Творческой эволюции» — это самое знаменитое его произведение, которое впервые переводится на русский язык. В этой книге впервые разрабатываются идеи закрытого и открытого общества, закрытой и открытой морали, статической и динамической религии. Автор развивает поразительно глубокие, оригинальные и пророческие мысли о демократии, справедливости, об опасностях, которые подстерегают человечество, и о том выборе, который предстоит ему сделать.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.