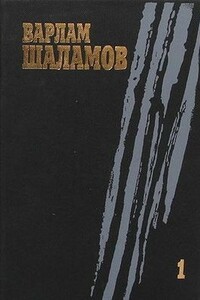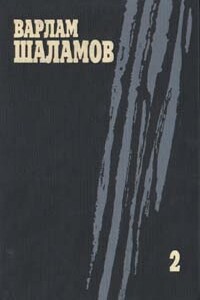Том 3 - [7]
Шрифт
Интервал
Еще от автора Варлам Тихонович Шаламов
Рекомендуем почитать