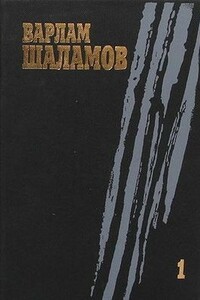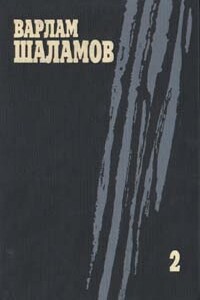Две малявинских бабы стоят у колодца —
Древнерусского журавля — И судачат…
О чем им судачить, Солотча,
Золотая, сухая земля?
Резко щелкает кнут над тропою лесною —
Ведь ночным пастухам не до сна.
В пыльном облаке лошади мчатся в ночное,
Как в тургеневские времена.
Конский топот чуть слышен, как будто глубоко
Под землей этот бег табуна.
Невидимки умчались далеко-далеко,
И осталась одна тишина.
Далеко-далеко от московского гама
Тишиной настороженный дом,
Где блистает река у меня под ногами,
Где взмахнула Ока рукавом.
И рукав покрывают рязанским узором,
Светло-бронзовым соснам под лад,
И под лад черно-красным продымленным зорям
Этот вечный вечерний наряд.
Не отмытые храмы десятого века,
Добатыевских дел старина,
А заря над Окой — вот мечта человека,
Предзакатная тишина.