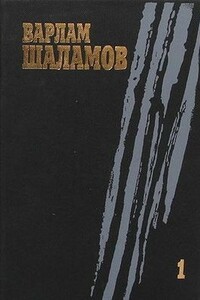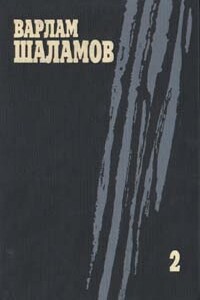Смешались облака и волны,
И мира вывернут испод,
По трещинам зубчатых молний
Разламывается небосвод.
По желтой глиняной корчаге
Гуляют грома кулаки,
Вода спускается в овраги,
Держась руками за пеньки.
Но, в сто плетей дубася тело
Пятнистой, как змея, реки,
Гроза так бережно-умело
Цветов расправит лепестки.
Все то, что было твердой почвой,
Вдруг уплывает из-под ног,
И все земное так непрочно,
И нет путей и нет дорог.
Пока прохожий куст лиловый
Не сунет руку сквозь забор,
И за плечо не остановит,
И не завяжет разговор.
И вот я — дома, у калитки,
И все несчастья далеки,
Когда я, вымокший до нитки,
Несу за пазухой стихи.
Гнездо стихов грозой разбито,
И желторотые птенцы
Пищат, познав крушенье быта,
Его начала и концы.