Том 3. Алый меч - [59]
Небо говорило мне: ты болен, – посмотри на нашу болезнь. Ты смертью умираешь, – посмотри, как с тобой умру и я. Кто слеп – на том нет греха. А кто видит и не принимает – тому нет прощенья.
И вся моя уходящая, истребляемая мною в бесцельных муках ненужной любви – жизнь стала для меня драгоценностью, как драгоценность – всякая жизнь, единственная, всякой единственной твари. Смертные тени, синие лучи ходили вокруг меня; а мера сил жизни была еще не исполнена, конца еще не было, и оттого такая дрожь, такой трепет обняли тварь. Нет, жить, жить надо, – видеть, если есть глаза; это еще не ангел – это демон смерти, не успение, а убийство; это – затмение.
Два часа мертвый, серый мрак сжимал воздух. Воскресение было медленное, едва уловимое: только дышать становилось легче, сердце стукнуло громче, да птицы, еще робко, но кое-где перекликнулись с радостным недоумением. Небо выходило из пустоты, возвращалось ко мне.
Моя спутница притихла, как птица, но она была не птица, которая воскресла безотчетно лишь с воскресением; и не я, понимающий жизнь, небо и землю, как это было мне дано, и который воскрес тоже лишь с воскресением; она была – между нами, на половине пути; со своим получувством твари и полумыслью человека, она скоро оправилась, зная, что это – «астрономическое явление, которое обычно, и оно пройдет: неприятно в первую минуту, а потом очень интересно».
Она стала говорить, я молчал. Она рассердилась – у нас каждая мелочь вела к ссоре – и надулась, кажется. Мы вошли на гору, недалеко, сели. Стало уже светать тогда, и сердце мое ожило немного. Нельзя было терять времени. Сказать ей все, что я думал и чувствовал прямо, я мог бы только в одном случае, если бы затмение духа моего еще продолжалось. Ведь она бы ничего не услышала. И я сказал:
– За что ты сердишься? Я молчалив, я думаю о том, что нам надо расстаться.
Она изумленно взглянула на меня. Но я уже понимал ее взгляды. И продолжал:
– Ведь ты говорила, что хочешь, по некоторым соображениям, остаться ненадолго во Флоренции. А мне надо ехать теперь.
Об этом, действительно, была речь. В своих «соображениях» она путалась, я вникать не хотел, боялся, но требовал, чтобы она ехала со мною. А она кричала, что «должна быть свободна», и я уже ничего не понимал, ибо все судил от «любви», где «свободы» никакой не нужно.
– Ты, значит, теперь согласен? Ты понимаешь, что я должна чувствовать себя свободной?
Долго мы говорили. Господь с ней! Только бы не обидеть ребенка. Нежность у меня осталась, одинокая, большая, ненужная. Любви – не было. Она, эта женщина, была моим затмением.
Она почему-то плакала, много, жалобно, но детскими, какими-то не горькими слезами. Она сама не понимала, о чем плачет. «Ведь эта разлука всего на несколько недель!»
Нежность-жалость точно солью разъедала мое сердце. Если б я плакал, может быть, не так было бы больно. Но слезы не пришли. Я только тело мое все время чувствовал, и оно такое было тяжелое.
Мы вернулись в гостиницу задолго до обеда. Она измученная, наплаканная, прилегла на высокую кровать против окна, у которого стоял диванчик. Прилегла, отвернулась к стене и тотчас же заснула, крепко, вдруг, точно огорченный ребенок. А я, не зная, зачем, почему, двигаясь безотчетно, взял лист сероватой бумаги, карандаш, сел на диванчик у окна и стал рисовать подушки, золотой узел ее волос, все ее беспомощное, худенькое, маленькое тело, складки белого пикейного платья, чуть свисающие вниз, кончик ноги на одеяле.
Я плохо рисую. Я не знал, зачем я это делаю. Но каждую складку, тень на подушке я рисовал старательно, точно это было необходимо, точно мне хотелось приложить свою руку к смертной тени любви, прошедшей по моей жизни.
Я кончил рисунок, неумелый, но милый и страшный. Мы чаще говорили с нею по-французски; и я безотчетно подписал по-французски:
«Voici mon enfant morte».[9]
Наша разлука из двухнедельной перешла в постоянную просто, легко, почти без слов, сама собою. Она даже и не заметила, вероятно, как это случилось. Я все сделал, чтобы мой ребенок этого не заметил. Жестокость – слабость. Надо миловать всякую тварь. Я вернулся в Россию, странный, будто после тяжелой болезни. Обращая взор назад, я понял теперь и многие факты яснее, вернее, иначе. Нежность окончательно превратилась в жалость, такую же ненужную ей, как и нежность.
Затмение мое прошло. Надо жить. Надо жить.
Предвечерние облака все дробились, высокие, почти неподвижные и точно локонами, ровными и мягкими, затягивали зеленеющее небо. Был май. Я ехал в тряской извозчичьей пролетке по Воздвиженке, в Москве.
Все было дурно, все не удавалось. Мелочи разные, – но они оплели меня кругом, исподволь, и теперь казалось, что не вырваться из паутины. Тупое утомленье жизнью, точно ноги затекли в неудобных сапогах.
Может быть, казалось так дурно оттого, что со мною ехал мой товарищ Володя, которого я редко видал с университета, но любил, и ехали мы с ним от отца Геронтия, где я слушал опять Володины мысли. Володя говорил с ним, и теперь, не переставая, говорил со мной, глядя не на меня, а вниз, на трясущиеся крылья пролетки. У Володи был бледный, длинноватый нос, худые щеки, неровно заросшие черной бородой, губы у него шевелились, и хотя слов я всех не мог расслышать из-за треска и звяканья пролетки, и нашей и других, я догадывался, что он говорит все о том же.

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус периода Первой мировой войны и русской революции (1914-1917 и 1919 гг.). Предисловие Нины Берберовой.

Впервые издастся Собрание сочинений Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), классика русского символизма, выдающегося поэта, прозаика, критика, публициста, драматурга Серебряного века и русского зарубежья. Многотомник представит современному читателю все многообразие ее творческого наследия, а это 5 романов, 6 книг рассказов и повестей, 6 сборников стихотворений. Отдельный том займет литературно-критическая публицистика Антона Крайнего (под таким псевдонимом и в России, и в эмиграции укрывалась Гиппиус-критик)

Богема называла ее «декадентской Мадонной», а большевик Троцкий — ведьмой.Ее влияние на формирование «лица» русской литературы 10–20-х годов очевидно, а литературную жизнь русского зарубежья невозможно представить без участия в ней 3. Гиппиус.«Живые лица» — серия созданных Гиппиус портретов своих современников: А. Блока, В. Брюсова, В. Розанова, А. Вырубовой…

Зинаида Николаевна Гиппиус — удивительное и непостижимое явление "Серебряного века". Поэтесса, писательница, драматург и критик (под псевдонимом Антон Крайний), эта поразительная женщина снискала себе славу "Мадонны декаданса".Долгое время произведения З.Гиппиус были практические неизвестны на родине писательницы, которую она покинула в годы гражданской войны.В настоящее издание вошли роман "Чертова кукла", рассказы и новелла, а также подборка стихотворений и ряд литературно-критических статей.

Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью.Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин XX века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

В шестом томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются две книги ее воспоминаний – «Живые лица» (1925) и «Дмитрий Мережковский» (1951), последний прижизненный сборник стихов «Сияния» (1938) и стихотворения 1911–1945 гг, не вошедшие в авторские сборники.http://ruslit.traumlibrary.net.

В настоящем томе, продолжающем Собрание сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), публикуется неизданная художественная проза. Читателям впервые представляются не вошедшие в книги Гиппиус повести, рассказы и очерки, опубликованные в журналах, газетах и альманахах в 1893–1916 гг.http://ruslit.traumlibrary.net.
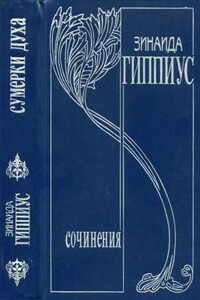
Во втором томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются второй сборник повестей и рассказов «Зеркала» (1898) и неизвестный роман «Сумерки духа» (1900). Эти произведения одного из зачинателей русского модерна критики отнесли к приметным явлениям литературы начала XX века. В том также включена первая книга выдающейся поэтессы – «Собрание стихов. 1889–1903».http://ruslit.traumlibrary.net.

В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.http://ruslit.traumlibrary.net.