Толстой и Достоевский. Противостояние - [14]
В Америке «замена» носила характер пространственно- культурный — миграция интеллекта из Европы в новый мир, — а в России — историко-революционный. И в том, и в другом случае присутствуют боль и безумие, но также — и потенциал эксперимента, пьянящая убежденность в том, что на кону — не просто создание портрета современного общества или романтическое развлечение.
Да, по меркам Джеймса, Готорн, Мелвилл, Гоголь, Толстой и Достоевский были изолированными писателями. Они творили независимо от доминирующей литературной среды или даже вопреки ей. Самому Джеймсу, как и Тургеневу, повезло больше — в главных центрах цивилизации их чествовали, и они сами чувствовали там себя, как дома, не принося в жертву верность своим идеалам. Но сегодня мы видим, что к «титаническим» шедеврам пришли именно визионеры, те, кто были гонимы.
В нашей воображаемой лекции о России и Америке XIX столетия, о возможных аналогиях в великих образцах русского и американского романа, о том, как они, каждый по-своему, отходили от европейского реализма, нам следует остановиться еще на одной теме. Европейская проза отражает длительный период посленаполеоновского мирного времени. Если не считать судорожных, но непродолжительных всплесков 1854 и 1870 годов, мир длился от Ватерлоо и до Первой мировой. Раньше война была доминирующим мотивом эпической поэзии — даже если речь шла о войне на небесах. Она снабдила контекстом многие серьезные драматические произведения от «Антигоны» до «Макбета» и шедевров фон Клейста. Но эта тема лежит довольно далеко от сферы внимания европейского писателя XIX века. Мы слышим дальние залпы пушек в «Ярмарке тщеславия»; приближение войны придает последним страницам романа «Нана» их иронию и незабываемую энергию; но лишь когда в ту полную отчаяния и разгула ночь над Парижем появились «цеппелины», знаменуя собой финал прустовского мира, война вновь вошла в мейнстрим европейской литературы. Да, Флобер — у которого большинство перечисленных проблем видны особенно остро — тоже писал свирепые и яркие пассажи о битвах. Но то были давние битвы в музейных декорациях древнего Карфагена. Любопытно отметить, что убедительные повествования о человеке на войне мы можем обнаружить лишь в детских книгах того времени — у Доде или у Дж. А. Генти[33], который, как и Толстой, нес на себе глубокую печать опыта Крымской войны. А во взрослой литературе европейский реализм не произвел на свет ни «Войны и мира», ни «Алого знака доблести»[34].
Этим фактом подтверждается более широкий вывод. Сцена европейского романа — вся его политическая и физическая матрица от Джейн Остин и до Пруста — отличалась чрезвычайной стабильностью. Все главные несчастья носили личный характер. Искусство Бальзака, Диккенса и Флобера не было готово — и не было призвано — иметь дело с силами, способными полностью растворить ткань общества и поглотить частную жизнь. Силы эти неумолимо сосредоточивались по мере продвижения к веку революции и тотальной войны. Но европейские писатели либо игнорировали те предвестья, либо давали им ложную интерпретацию. Флобер заверял Жорж Санд, что Коммуна — лишь краткое возвращение к средневековой фракционной борьбе. Только два прозаика сумели четко разглядеть порывы к дезинтеграции и трещины в стене европейской стабильности — Джеймс в «Княгине Казамассиме» и Конрад в книгах «Глазами Запада» и «Тайный агент». Наиболее очевидная значимость этого факта состоит в том, что ни тот, ни другой по рождению не принадлежали к западноевропейской традиции.
Насколько я могу судить, влияние Гражданской войны в США — или, скорее, влияние ее приближения и последствий — на американскую атмосферу не получило должной оценки. Гарри Левин предположил, что мировоззрение По было затуманено предчувствиями неминуемой судьбы Юга. Лишь постепенно мы начинаем осознавать, сколь радикальную роль сыграла война в сознании Генри Джеймса. Отчасти именно из-за нее мы видим восприимчивость Джеймса к демоническому и деформирующему, которая сделала его романы глубже и вынесла их за пределы французского и английского реализма. Но в еще более общем смысле можно сказать, что искусство Америки отразило нестабильность ее общественной жизни, мифологию насилия, присущего пограничной ситуации, и сосредоточенность на военном кризисе. Все эти факторы внесли свою лепту в то, что Д. Г. Лоуренс назвал «наивысшей точкой экстремального сознания». Он говорил о По, Готорне и Мелвилле. Однако его слова равно применимы к «Веселому уголку» и «Золотой чаше»[35].
При этом элементы, которые в случае с Америкой можно считать хоть и сложными, но все же порой маргинальными, в России XIX столетия представляли собой фундаментальные реалии.
V
За исключением гоголевских «Мертвых душ» (1842), гончаровского «Обломова» (1859) и тургеневского «Накануне» (1859), расцвет русской прозы пришелся на период от отмены крепостного права в 1861 году до первой революции 1905 года. По творческой мощи и частоте проявления гения эти сорок четыре года могут сравниться с Афинами времен Перикла и с Англией времен Елизаветы и Иакова. То время считается одной из высочайших эпох человеческого духа. При этом несомненно, что русский роман был зачат под единым знаком исторического Зодиака — знаком надвигающегося переворота. От «Мертвых душ» и до «Воскресения» (главный образ здесь проявляется, даже если просто наложить два заголовка друг на друга) русская литература отразила грядущий апокалипсис:

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
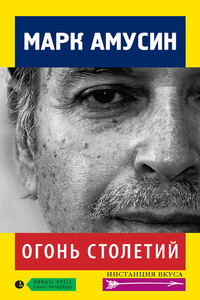
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.