Толкование путешествий - [190]
Как водится, знаменитую книгу часто не дочитывали. Ссылаясь на Остина, Ролан Барт в 1968 году считал, что перформативность «исходит из языка как такового». В этом качестве он объявлял перформативность свойством современного письма в его отличии от классической прозы[1018]. Потом проблема интенсивно обсуждалась, но не нашла позитивного решения[1019]. Она действительно имела стратегический характер: если бы перформативные акты удалось определить изнутри языка, то был бы немалый вклад в переделку мира. Лингвистическая философия и структурная лингвистика, как царица наук и их принцесса, руководили бы своими практическими приложениями вроде политики и рекламы. То был бы поздний триумф популистского романтизма 19-го века, сегодня воспринимаемого через Хайдеггера: все, что важно, содержится не в личности и авторстве, а в языке, который творит народ.
Буферной зоной между знаками и актами являются всякого рода рецепты, проекты и рекомендации. В отличие от речевого акта, произнесение или написание такого текста само по себе не меняет реальности. Лишь если эти тексты благодарно восприняты теми, кого они касаются, они выполняют экстратекстуальную роль. Хлеб станет другим, если печь его по новому рецепту. Однако рецепт выпечки может быть изложен в манере кулинарной книги (возьмите то-то и сделайте то-то), а может быть просто «вкусным» описанием нового хлеба. Предписывающая часть такого текста неотличима от описывающей. Другим примером являются политические утопии. Как любой текст типа рецепта, они принимались за руководство к действию только некоторыми. Одни читатели под влиянием чтения меняют свое поведение, а другие нет. Перформативная сила дается тексту не письмом, а чтением. Магических слов нет; но есть (как знает почти каждый читатель) влиятельные тексты, и есть (как знает почти каждый писатель) благодарная публика. Мягкая перформативность содержится не в высказывании, а в его взаимодействии с адресатом. В отличие от жесткой перформативности Бенвениста, мягкая перформативность не выводима из формальной структуры текста, но является непредсказуемым следствием содержательных взаимодействий между автором, текстом и читателем.
Текст осуществляет акт в том случае, когда соединяются три свойства: особое свойство автора (назовем его авторитетностью), особое свойство читателя (назовем его сензитивностью) и особое свойство текста (будем продолжать называть его перформативностью). Все вместе попробуем назвать теорией текстовых актов. Набросанная здесь схема признает сугубую добровольность связи между чтением и осуществлением. Идет ли речь о лирическом признании, политическом призыве или кулинарном рецепте — читатель волен следовать за писателем, но волен и уклониться от осуществления его текста. В этом отличие нашей схемы от теории речевых актов. Последняя сосредоточилась на таких характеристиках речи или ситуации, которые делали бы осуществление обязательным, перформативность ультимативной. Поэтому самые удачные примеры собственно филологического использования теории речевых актов сосредоточены на Мильтоне и Блейке: поэты-визионеры подражали тем стихам из Книги Бытия, в которых цитируется речь Бога, единственный безусловный перформатив[1020]. Речевые акты в их чистой форме воспроизводят не просто дискурс власти, но дискурс абсолютной власти. Наоборот, текстовые акты предполагают свободный выбор партнера, подобно половым актам[1021], и насилие в обоих случаях переживается как недопустимое.
Сама идея речевого акта — проект магического преображения мира под воздействием слова, надежда найти языковое средство революции, интеллектуальная эмблема уходящей эпохи. То, как своевременно сам ее автор отказался от собственной идеи, дает интеллектуалу новых времен впечатляющий пример для подражания.
Идея ответственности вновь актуализирует проблему внутреннего авторства. Для русского филолога проблематика ассоциируется с Бахтиным и Достоевским, и еще Набоковым; но ни по материалу, ни по подходу она ими не исчерпывается. Активная игра с авторскими позициями разворачивается уже в Борисе Годунове. Летописец Пимен — рассказчик той части истории, которая кончается убийством царевича. «Сей повестью плачевной заключу я летопись свою», говорит Пимен. Между тем его рассказ влияет на дальнейшую историю по механизму «мягкого» перформатива. От Пимена узнав историю царевича, Отрепьев сам, по воле своей и обстоятельств, им становится. Создав героя, Пимен завещает ему же продолжить текст и, таким образом, стать автором: «Брат Григорий […] Тебе свой труд передаю […] Описывай […] Все то, чему свидетель в жизни будешь». Дальше мы именно это и читаем: большую часть текста стоит читать как написанную Отрепьевым. Действие определяют обратимые переходы между текстом и жизнью, между автором и героем, между повествованием о власти и ее осуществлением. Чтобы осуществить рассказ, надо сменить автора. Не рассчитывая на понимание читателя, а тем более зрителя, совсем не готового к столь сложной структуре, Пушкин заселяет текст все новыми репрезентациями автора: ставит рядом с самозванцем «поэта», которому тот дарит перстень в жесте, противоположном сальериевскому, и дает собственную фамилию ближайшему советнику самозванца. Все равно этот пионерский эксперимент с переменой рассказчика и перформативным осуществлением рассказа остался незамечен. Пушкинская драма рассказывает о трагедии политической власти; в силу известных нам механизмов понятно, почему параллельному осмыслению подвергается авторская власть. Если самозванец — всегда автор, то верно и обратное: автор — всегда самозванец.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Уильям Буллит был послом Соединенных Штатов в Советском Союзе и Франции. А еще подлинным космополитом, автором двух романов, знатоком американской политики, российской истории и французского высшего света. Друг Фрейда, Буллит написал вместе с ним сенсационную биографию президента Вильсона. Как дипломат Буллит вел переговоры с Лениным и Сталиным, Черчиллем и Герингом. Его план расчленения России принял Ленин, но не одобрил Вильсон. Его план строительства американского посольства на Воробьевых горах сначала поддержал, а потом закрыл Сталин.

Книга известного историка культуры посвящена дискурсу о русских сектах в России рубежа веков. Сектантские увлечения культурной элиты были важным направлением радикализации русской мысли на пути к революции. Прослеживая судьбы и обычаи мистических сект (хлыстов, скопцов и др.), автор детально исследует их образы в литературе, функции в утопическом сознании, место в политической жизни эпохи. Свежие интерпретации классических текстов перемежаются с новыми архивными документами. Метод автора — археология текста: сочетание нового историзма, постструктуралистской филологии, исторической социологии, психоанализа.

Это книга фактов и парадоксов, но в ней есть мораль. Текст соединяет культурную историю природных ресурсов с глобальной историей, увиденной в российской перспективе. Всемирная история начиналась в пустынях, но эта книга больше говорит о болотах. История требует действующих лиц, но здесь говорят и действуют торф и конопля, сахар и железо, мех и нефть. Неравномерность доступных ресурсов была двигателем торговли, и она же вела к накоплению богатств, росту неравенства и умножению зла. У разных видов сырья – разные политические свойства, и они порождали разные социальные институты.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
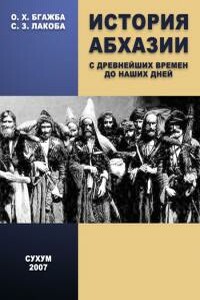
В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.
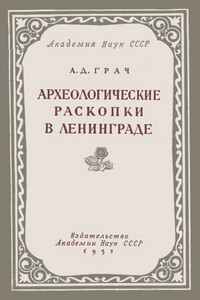
Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.