Толкование путешествий - [189]
В отличие от Шкловского и по его примеру, я называю противоположный и, я думаю, более распространенный механизм банализацией высоких жанров. Более чем понятно, что теоретик или писатель выражает заботы эпохи раньше, чем революционер или политик: текстуальный материал податливее жизненного. Так, Гегель готовил Наполеона, Маркс предшествовал Ленину, Ганди готовил Неру, Ницше предшествовал Гитлеру, Кейнс готовил Рузвельта, Сахаров предшествовал Горбачеву. Так, английская драма предшествовала английской революции, французская философия — французской революции, итальянская опера — итальянской революции, русский роман — русской революции.
Мы мало чем располагаем для описания столь очевидных явлений. Социологической парадигмой остается теория Эмиля Дюркгейма, согласно которой люди воспринимают ценности общества, участвуя в его ритуалах. В этом заключается социальное значение религиозных обрядов и их субститутов, вроде ренессансных карнавалов и революционных праздников. Последующие поколения исследователей историзовали эту идею, которая в прямом своем виде применима только для самых архаичных культур (не зря Дюркгейм говорил, что австралийских аборигенов понимает лучше, чем современных французов). Из ритуала рождается миф, который выполняет те же функции другими средствами. Далее мифы поглощаются институтами — церковью, семьей, школой, государством и прочим. В культуре ничто не исчезает, но превращается в новый уровень. Следующим таким уровнем, как я думаю, является культура текстов. Независимое функционирование текстов, которые влияют на социализацию новых поколений автономно от институтов, характерно для эпохи модерна. Иногда тексты оказываются сильнее институтов и осуществляются в глобальном масштабе, порождая новые институты и в них потом застывая. Это называется революцией.
В понимании культуры институтов в их отличии от культуры ритуалов Дюркгейм замещается Вебером. Далее социология уступает место философии и критике. Интерес к прагматике текстов и текстуальности истории связан с наследством прагматизма. Единственная из философий, которая была собственно американской по своему происхождению, прагматизм является, возможно, и единственной философией, которая не скомпрометировала себя связью с самыми неприятными из политических режимов столетия. Такого рода связи доставили немало горьких минут и испортили немало карьер сторонникам марксизма, феноменологии и деконструкции. Исключительное положение прагматизма закономерно, но понятно только с точки зрения самого прагматизма. Другие эпистемологические позиции не признают практического значения мысли, текста и, наконец, самой философии — иначе говоря, не признают интеллектуальной ответственности как таковой. Прагматизм объявил важным не то, истинно или ложно некоторое высказывание, а то, к каким следствиям ведет вера в его истинность. Иначе говоря, прагматизм признает текст и автора ответственными за последствия чтения. С этой точки зрения жизненные последствия интеллектуальной работы есть самое важное из того, что нужно изучать ее историку. Такие последствия могут быть глобальными, как в случае марксизма; но могут иметь и личный характер, касаясь значимых решений или образа жизни писателя или читателя. Прямые соотнесения между идеями и поведением — обычный метод популярной биографии и исторического романа; но только прагматизм дает философскую санкцию такого рода переходам из жизни в текст и обратно.
Текст есть система означающих, которые согласно классическим формулировкам связаны со своими означаемыми — в конечном итоге, с элементами реальной жизни — условными соответствиями. Значение текста создается не единичными соответствиями, а их системой в целом, которая именно так, в целом, относится к реальной жизни. Слово «хлеб», к примеру, ничем не похоже на кусок хлеба; но семиотика умеет объяснить, в чем природа их отношений. Существуют, однако, целые классы текстов, которые более тесно связаны с аспектами реальной жизни вроде хлеба. Таковы речевые акты, или перформативы, впервые описанные Джоном Остином[1015]. В случае адекватного произнесения эти формулы меняют реальное поведение людей. Например, если священник говорит двум людям «Объявляю вас мужем и женой», то они становятся таковыми. Если председатель говорит «Объявляю собрание открытым», собрание действительно начинается. Такой текст не обозначает изменения реальности — он его определяет.
Перформативность речи не зависит ни от ее субъекта, ни от ее содержания, ни от социальной ситуации, а от всего вместе взятого. Когда Германн делал свою ставку за карточным столом, его слова были перформативном актом, имевшим немалые последствия. Когда он повторял те же слова в сумасшедшем доме, они не имели ни малейшей силы

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Уильям Буллит был послом Соединенных Штатов в Советском Союзе и Франции. А еще подлинным космополитом, автором двух романов, знатоком американской политики, российской истории и французского высшего света. Друг Фрейда, Буллит написал вместе с ним сенсационную биографию президента Вильсона. Как дипломат Буллит вел переговоры с Лениным и Сталиным, Черчиллем и Герингом. Его план расчленения России принял Ленин, но не одобрил Вильсон. Его план строительства американского посольства на Воробьевых горах сначала поддержал, а потом закрыл Сталин.

Книга известного историка культуры посвящена дискурсу о русских сектах в России рубежа веков. Сектантские увлечения культурной элиты были важным направлением радикализации русской мысли на пути к революции. Прослеживая судьбы и обычаи мистических сект (хлыстов, скопцов и др.), автор детально исследует их образы в литературе, функции в утопическом сознании, место в политической жизни эпохи. Свежие интерпретации классических текстов перемежаются с новыми архивными документами. Метод автора — археология текста: сочетание нового историзма, постструктуралистской филологии, исторической социологии, психоанализа.

Это книга фактов и парадоксов, но в ней есть мораль. Текст соединяет культурную историю природных ресурсов с глобальной историей, увиденной в российской перспективе. Всемирная история начиналась в пустынях, но эта книга больше говорит о болотах. История требует действующих лиц, но здесь говорят и действуют торф и конопля, сахар и железо, мех и нефть. Неравномерность доступных ресурсов была двигателем торговли, и она же вела к накоплению богатств, росту неравенства и умножению зла. У разных видов сырья – разные политические свойства, и они порождали разные социальные институты.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.
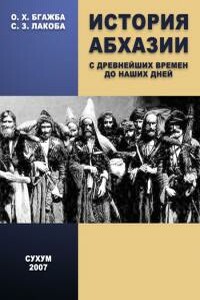
В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.
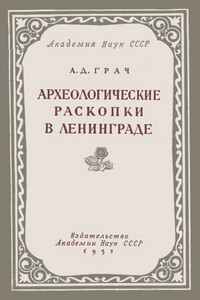
Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.