Тит Беренику не любил - [48]
Наутро у него болят все пальцы, вся, до плеча, рука, и целый день она висит как мертвая. Он ходит скованный, все делает левой: ставит подпись, получает новые дары, наряды, приветствует друзей, — точно раненный в бою. А на вопросы, что с ним, отвечает: пустяки, пройдет, неловко повернулся. И никому пока не говорит, что в следующей трагедии расскажет о минуте, когда рука той женщины нажмет на ручку и она выпустит на свободу свое желание. Точно спустит цепную собаку на стоящего там, за дверью. Хорошо ли она поступила? Или должна была и дальше держать дверь закрытой? Он сам не знает. Ему важно другое: густая смесь из жалости и ужаса, из которой он хочет ваять, которая станет живым нервом, лезвием конфликта, надвое рассекающего человеческое существо. Страсть, убивающая себя. Это будет трагедия безответной любви, еще страшнее предыдущих, неистовая, кровавая, без всякого галантного налета.
А героиня будет гречанкой. Гречанки теснее связаны с богами, кроме того, они владеют Минотавром и тем безумным лабиринтом, где души сбиваются с пути и попадают в лапы к демонам. Ее переполняет страсть, подобная тому пятну ярчайшего света на белом мраморе Версаля или ровному жаркому золоту спелых хлебов Юзеса, этой колышущейся глади, кусочку неба на земле. Вся пьеса будет озарена раскаленным солнцем, лишенным лучей, сжигающим свои последние и в сто крат более горячие огни. Чтобы погаснуть навсегда. Героиня — дочь Солнца, в его жару она растает, и ее желание расплавится, как воск, хлынет неостывающим, неукротимым потоком.
У нее будет много слов, гораздо больше, чем у всех других персонажей. Из тысячи шестисот стихов, обычно составляющих трагедию, он отдаст ей добрую треть, а то и больше, чтобы хватило на признания, на самобичевания и на призывы смерти. Заполучив такую роль, Мари, уж наверное, его не бросит? Он сможет удержать ее подольше, отвадит от шальных гулянок, предложит то, до чего так охочи все женщины: громкую славу и почести. Не меньше пятисот стихов. Она набросится на них, точно голодный зверь, наглотается досыта, потом будет послушно следовать его советам и, не понимая, что она — его творение, гордиться собственным талантом. Чтобы глядеть на мир, ей нужны глаза Жана. Стоит ему во время репетиции хоть на минуту отвернуться, как Мари себя чувствует покинутой и одинокой. Внезапно у нее подкашиваются ноги, так что приходится сесть и сидеть, пока снова не подойдет Жан и она не вспорхнет. Мари еще не знает: на этом самом стуле она будет сидеть в спектакле. Единственный реквизит, который он потребует для новой пьесы. На этот раз он превратит Мари в чудовище, она выйдет на сцену и прокричит: «Я вымолвила то, что не должно звучать!»[61] Что она скажет дальше, он еще не знает, но этот покаянный вопль уже написан. Его услышит даже тетушка в лощине Пор-Рояля, услышит, ужаснется, сляжет от этой неслыханной ереси, так что Амона призовут к ее ложу. Вдвоем, в холодной полутемной келье они сначала будут сокрушаться, как Жан до такого дошел, а потом погрузятся в молитвы.
Теперь он должен выбрать место, время, действующих лиц и работать втайне от всех. Его норовят подстеречь, сварганить что-нибудь свое на ту же тему. Вот почему его новые пьесы — военная тайна. Когда его расспрашивают, он только улыбается и прижимает палец к губам. Дамы допытываются: ну хоть будет ли там про любовь? Он отвечает: да, но весьма необычно.
Солнечный луч уперся в его руку. То будет Федра, дочь Миноса и Пасифаи. О ней писали Еврипид и Сенека. Теперь, когда выбор сделан, Жан невольно поглядывает на Мари и прикидывает: сумеет ли она сыграть одержимость на грани безумия? Она перехватывает этот взгляд и не знает, что думать, но он молчит и сообщает новость только Никола.
— Как? Снова женщина! — воскликнул тот.
— Но женщин не было давно!
— Это правда. Но все-таки, признайтесь, вы не можете устоять.
— Вот увидите, эта будет величайшей из всех.
Он воздвигает две стены. Две крепостные стены, которые удерживают, прячут, но, рухнув, выпускают наружу бурлящий поток, и страсть кипит еще сильнее, после того как прорвалось признание. Клокочет пена, белизной сравнимая с белым солнцем, палящим человеческие души и тела.
Жан развернул бумажный план на полу — поверхность стола для этого слишком мала. Ходит кругами, опускается перед ним на колени и застывает, уже не чуя холода от каменных плит. А всем, без исключения, докучным посетителям велит прийти попозже.
Действие строится на двух главных признаниях: первое — наперснице, второе — любимому. Да, признание за признанием, одно в первом акте, другое во втором, почти на том же месте, и это не считая абсолютно симметричных признаний Ипполита. Так он разделит вину на двоих, облегчит ее. И назовет трагедию «Федра и Ипполит», чтобы эта симметрия бросалась в глаза и чтобы его опять не упрекали, что он выводит только женщин. Делать Федру низвергнутым идолом он не желает, она останется невинной, она не до конца преступна, невинна и преступна, дурна и хороша.
Она — все человечество, рвущееся на части, обремененное грехами предков, прощенное предками и потомками — всеми, кто издавна, извечно, с начала мира творил и продолжает творить зло. Сама Венера. И для начала — стул. Надо сказать декоратору и настоять: стул, один только стул и больше ничего.

Настоящее издание представляет собой первую часть практикума, подготовленного в рамках учебно-методического комплекса «Зарубежная литература XVIII века», разработанного сотрудниками кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета, специалистами в области национальных литератур. В издание вошли отрывки переводов из произведений ведущих английских, французских, американских, итальянских и немецких авторов эпохи Просвещения, позволяющие показать специфику литературного процесса XVIII века.
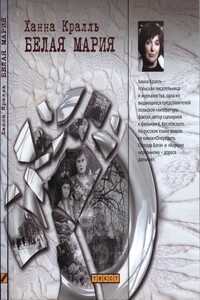
Ханна Кралль (р. 1935) — писательница и журналистка, одна из самых выдающихся представителей польской «литературы факта» и блестящий репортер. В книге «Белая Мария» мир разъят, и читателю предлагается самому сложить его из фрагментов, в которых переплетены рассказы о поляках, евреях, немцах, русских в годы Второй мировой войны, до и после нее, истории о жертвах и палачах, о переселениях, доносах, убийствах — и, с другой стороны, о бескорыстии, доброжелательности, способности рисковать своей жизнью ради спасения других.
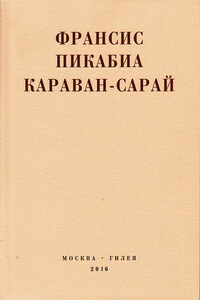
Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

Судьба была не очень благосклонна к маленькому Цедрику. Он рано потерял отца, а дед от него отказался. Но однажды он получает известие, что его ждёт огромное наследство в Англии: графский титул и богатейшие имения. И тогда его жизнь круто меняется.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.