Тит Беренику не любил - [26]
Новое звание обязывает: Жан должен без конца сочинять славословия. Через три месяца он пишет аллегорию, воспевающую разнообразные достоинства государя, и получает право присутствовать при его пробуждении в замке Сен-Жермен-ан-Лэ.
Подобного восторга ему и сам Господь Бог никогда не внушал. Поверх голов людей, стоящих впереди, он ловит каждое движение, впивает шорох ткани, шепот губ. А в голове теснятся фразы, хвалебные строфы и мысли. Верно, маркиз, увидь он его тут, сбавил бы гонор, а тетушка разбранила бы его за суетные увлечения. Король произносит молитву, его одевают, причесывают, он пьет бульон, как простой смертный, а Жан стоит завороженный. Как будто не человек производит все эти нехитрые действия, а целое государство вырастает у него на глазах. Король — почти ровесник, почти брат, рядом с которым ему тоже предстоит расти и развиваться. И он, Жан, станет новым языком этого нового государства.
Король не заметил его в толпе и только Мольера удостоил похвалы. На следующий день тот, не тая досады и запивая горечь неизменным молоком, рассказывал, каких усилий стоит добиться королевских милостей. Выходит, комедия портит кровь еще хуже трагедии. Жан вышел из трактира, преисполненный решимости вновь взяться за пьесу.
— Вы мне поможете осилить этот замысел? — просит он Никола.
— Я вам совсем не нужен. Вы сами — воплощенная дисциплина.
Нет, нужен. Они обходят театры. Жан заражает своим рвением флегматичного Никола. По большей части они делают это вдвоем, так что Жан лишний раз убеждается: жизнь дала ему нового друга. Друзья смотрят много комедий. Он предпочитает мольеровские — они правдивее, естественнее других, но бесконечное множество событий утомляет и раздражает. Тогда он начинает наблюдать за публикой. Люди хохочут во все горло, без всякого стеснения. Никола замечает, что зрители трагедий ведут себя достойнее: другая установка, другой культурный уровень, да и язык трагедии другой — сдержанный пафос и александрийский стих, сам по себе, даже такой, как у какого-нибудь Кино[41], требующий сосредоточенного внимания. Приятели встречают в разных театральных залах одних и тех же завсегдатаев, уже раскланиваются с ними. Для Жана это плодотворное время, он собирает драгоценный материал, накапливает впечатления и мысли, которые должны пригодиться для его затеи. Но однажды, после представления, где давали Корнеля, он вышел задумчивым и хмурым.
— Не понимаю, что вас так удручает, — сказал Никола. — Вы молоды, он стар, все впереди.
Что? — Жан и сам не совсем понимает, хотя причин немало: ему еще надо пробиться, трагедии играют только в трех театрах, больше двадцати представлений ни одна не выдерживает, афиши едва успевают меняться, дело рискованное, легко провалиться.
— Так пишите комедии!
— У меня не тот слог.
— Поработайте и переделайте слог.
— Не все возможно переделать.
Да и не хочет он закончить, как Мольер, желчным шутом. Ему как раз и нравятся в трагедии ограничения, строгий устав, — на этом слове он осекся, его кольнула память.
— Вы можете вообразить, чтобы пьеса моего сочинения заставляла людей смеяться до колик?
— Нет, но посмотрите на Мольера. Он самый мрачный человек на свете, а пишет такие забавные вещи. Послушайте только: «Да, я ее люблю, хотя мои щедроты, И ласки, и добро, — все предала она, Но без ее любви и жизнь мне не нужна»[42]. И жизнь мне не нужна… Забавно, правда?
— Говорю вам, он уже никогда не напишет ничего, кроме комедий, слишком поздно. А у меня, в любом случае, выбора нет.
Он опять, как когда-то, погружается в усердные, серьезные занятия, часами работает в одиночестве, — так, как не снилось Никола; его дни — что суровый пейзаж без цветов. Слова «устав» он теперь избегает, а говорит о жестких правилах, благодаря которым в языке возникает реакция, какой не бывает в комедиях.
— Реакция? Вы говорите, точно химик.
— Вот именно. Мне кажется, трагедия раскаляет язык на таком жарком пламени, что это может изменить его природу.
Этот жар проникает в него самого, бросается в голову, как винные пары. Продолжение своих мыслей он держит при себе. По-настоящему почитают того, кто сумел заставить публику страдать. А не покатываться со смеху. Меж тем Никола, пока слушал, заснул.
Братья Корнели не дают ему покоя; не потому ли в центр своей первой пьесы он поместил двух братьев, что ему не терпелось расколоть этот братский союз, запустить в него камнем? Корнель великий — не Тома, а Пьер. Где бы Жан ни был, что бы он ни делал, это имя маячило перед ним как образец, который надо превзойти. Что ж, думал он, великие авторы всегда вступали в поединок: Софокл — протии Эсхила, Паскаль — против Монтеня. Но если хочешь победить, надо хорошо изучить противника, и он действует, как его учили: препарирует пьесы Корнеля.
Заводит новую тетрадь, выписывает отдельные стихи и целые реплики. Распределяет слова по колонкам, рисует схемы, делает конспекты и заключает, что Корнель то и дело пренебрегает правилом трех единств, позволяет себе вольности. В его системе постоянно что-то провисает, несмотря на все его геометрические построения, любовь к симметрии и непременную схему: два пути, выигрыш, потеря, а в конце равновесие и возвращение к исходной точке. Вот почему Корнель так любит антитезу, соображает Жан, но она у него остается плоской, бездушной фигурой. Он делится своими наблюдениями с Никола, а тот не может взять в толк, к чему он клонит. Тогда, приведя несколько примеров, Жан говорит:
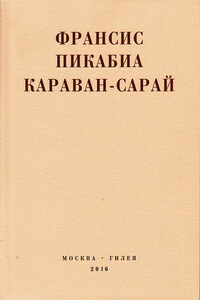
Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.

В системе исправительно-трудовых учреждений Советская власть повседневно ведет гуманную, бескорыстную, связанную с огромными трудностями всестороннюю педагогическую работу по перевоспитанию недавних убийц, грабителей, воров, по возвращению их в ряды, честных советских тружеников. К сожалению, эта малоизвестная область благороднейшей социально-преобразовательной деятельности Советской власти не получила достаточно широкого отображения в нашей художественной литературе. Предлагаемая вниманию читателей книга «Незримый поединок» в какой-то мере восполняет этот пробел.

У той, что за стеклом - мои глаза. Безумные, насмешливые, горящие живым огнем, а в другой миг - непроницаемые, как черное стекло. Я смотрю, а за моей спиной трепещут тени.

Мать и маленький сын. «Неполная семья». Может ли жизнь в такой семье быть по-настоящему полной и счастливой? Да, может. Она может быть удивительной, почти сказочной – если не замыкаться на своих невзгодах, если душа матери открыта миру так же, как душа ребенка…В книге множество сюжетных линий, она многомерна и поэтична. «Наши зимы и лета…» открывают глаза на самоценность каждого мгновения жизни.Книга адресована родителям, психологам и самому широкому кругу читателей – всем, кому интересен мир детской души и кто сам был рёбенком…