Тит Беренику не любил - [24]
По вечерам он ходит прогуляться. Любуется оливами, срывает оливки, надкусывает. Деревья, которые он любил раньше, плодов не давали. Горечь на языке. Жан описывает тонкий узор из серебристых листьев, пишет, что чувствует, бродя под теми же деревьями, среди которых жили Вергилий, Софокл. «Могли бы сказать: и Иисус Христос, наш Господь», — пеняет ему тетушка. А Жан об этом и не подумал. «Так вы и в самом деле предпочли Богу стихи?» — пишет тетушка. Да, Пор-Рояль понемногу блекнет. Из-за всех новых мест, в которых он бывает, и новой королевский резиденции, что вырастает в Версале, — все только и твердят о ее неслыханном великолепии. Раздваивается не только язык, но и весь его мир: с одной стороны — Бог, аббатство, мрак, с другой — король, поэзия и свет.
В Юзесе ему поручено надзирать за строительными работами, руководить каменщиками, столярами, стекольщиками. Как ни странно, он справляется. Нельзя сказать, что ему нравилось само это занятие, но было приятно почувствовать себя значительным, встроиться в общий порядок, быть в ладу со всем миром, — не то что поэзия, где ты окружен не вещами, а словами. Однако же стоило ему прийти на стройку и окунуться в разговоры о балках и окнах, как уже не терпелось вернуться в свою прохладную комнату за толстыми стенами, водить пером по бумаге, уйти от вещей к словам. Одно за другим слагает он стихотворения о красоте южных женщин, но почти не встречается с ними, а имена сочиняет по аналогии с теми, что слышит в округе; пишет восторженные письма, в которых сравнивает свое изгнание с Овидиевым. И все же он скучает по привычной жизни завзятого парижанина. По трактирам, по свежему ветру и полумраку — слишком уж много тут солнца. Друзья, особенно Франсуа, отвечают все реже и реже. Лафонтен занят чем-то другим. И только Буало регулярно и постоянно присылает новости театральных подмостков, где всех затмили Мольер, Буайе[40] и Корнель.
Однажды утром он решил, что неплохо бы все же добраться до моря. Долго скакал, напряженно вглядываясь в горизонт.
Сине-зеленая, вся в зыбких складках, ткань, покрывало, расстеленное между разными краями земли, чтобы люди по нему передвигались, странствовали, сходились, расходились и терялись. Подобно Одиссею. Леса, равнины и долины не так ощутимо дают понять, что такое границы, как море. Самые лучшие истории, думает Жан, — это те, где героев разделяет океан и события разворачиваются по обе его стороны. Тогда легко вообразить развязку, настигающую героев на разных берегах. Древние это знали. Элегии, трагедии невозможны без моря. Но одно дело читать, а другое — почувствовать. Прежде элегия представлялась ему чем-то вроде потока, реки, более или менее быстрой, протяженной, полноводной. Теперь же он видит иначе: это необъятная ширь, раскинувшаяся между любящими, пучина, из которой нет возврата, взгляд, со слезами устремленный на далекий недостижимый берег.
Он посвятил этой теме немало стихов, пока Буало не написал ему, что он попусту теряет время. Буало — взыскательный друг, не менее строгий, чем учителя в Пор-Рояле, но не такой жестокий. И он прав: строфы Жана проникнуты все тем же устаревшим взглядом на элегию, он словно бы пускает их течь и течь по наклонной плоскости. Но чтобы выразить разлуку, говорит Буало — «дорогой Никола», как называет его нынче Жан, — нужно несколько голосов, несколько героев, нужны переходы из регистра в регистр, «как вы, должно быть, знаете из Гомера и Квинтилиана».
Несколько дней спустя Жан услышал об одной девушке: она была беременна и отравилась, боясь отцовского гнева. Простая местная история, но он почуял в ней биение античной драмы. Потом открылось, что несчастная и беременна-то не была. В Юзесе, пишет Жан своим друзьям, пожалуй, тоже есть что-то стоящее, это город страстей. Что еще нужно, чтобы сочинять трагедию? Таков его новый замысел. Кто-то подсказывает ему сюжет: миф об Эдипе. Он перечитывает греков. Время теперь проходит быстро. Потом читает современные произведения, на его взгляд, перегруженные событиями и фактами, и дает себе слово, что напишет проще и лучше.
Эдип так Эдип. Каждую сцену он сначала записывает прозой, все взвешивает, выверяет равновесие, дистанции, выстраивает драматическое пространство по законам физики, рассчитывает баланс сил. Потом дает написанному отлежаться несколько часов, идет на прогулку, приходит обратно и кое-что подтягивает там и здесь. Это трудно и требует куда больше усилий, чем все прочие сочинения; скорей бы уже кончился этот этап и можно было спокойно заняться привычной работой: перелагать в стихи. Подбирать слова, обороты — уж сколько лет он этим занимается; совсем иное дело — упорядочивать действия героев, сцеплять между собою сцены. Каждый вечер он думает, что наконец на следующий день возьмется за стихи, а утром что-то исправляет, и из-за этого приходится все начинать сначала. И никто из друзей не поможет — тут он первопроходец. Он все же спрашивает Лафонтена, верно ли делает, что ссору Иокасты с сыновьями откладывает на четвертое действие, или это уже слишком поздно. Лафонтен советует ввести эту сцену пораньше. Жан два дня размышляет, но решается оставить все по-своему: во-первых, так лучше держать в напряжении зрителей, а во-вторых, не стоит перегружать действие новыми поворотами. Вдруг, вопреки обыкновению, он перестал отвечать на письма и, как когда-то в Пор-Рояле, погрузился в плодотворное уединение. А письма все лежат нераспечатанными.
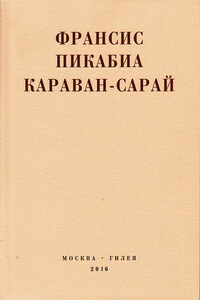
Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.

В системе исправительно-трудовых учреждений Советская власть повседневно ведет гуманную, бескорыстную, связанную с огромными трудностями всестороннюю педагогическую работу по перевоспитанию недавних убийц, грабителей, воров, по возвращению их в ряды, честных советских тружеников. К сожалению, эта малоизвестная область благороднейшей социально-преобразовательной деятельности Советской власти не получила достаточно широкого отображения в нашей художественной литературе. Предлагаемая вниманию читателей книга «Незримый поединок» в какой-то мере восполняет этот пробел.

У той, что за стеклом - мои глаза. Безумные, насмешливые, горящие живым огнем, а в другой миг - непроницаемые, как черное стекло. Я смотрю, а за моей спиной трепещут тени.

Мать и маленький сын. «Неполная семья». Может ли жизнь в такой семье быть по-настоящему полной и счастливой? Да, может. Она может быть удивительной, почти сказочной – если не замыкаться на своих невзгодах, если душа матери открыта миру так же, как душа ребенка…В книге множество сюжетных линий, она многомерна и поэтична. «Наши зимы и лета…» открывают глаза на самоценность каждого мгновения жизни.Книга адресована родителям, психологам и самому широкому кругу читателей – всем, кому интересен мир детской души и кто сам был рёбенком…