Теория бессмертия - [6]
Он не знал, что это было — восторг или отвращение, чувствовал только, что всё в нём перемутилось. И когда он шёл обратно в зал, чувствовал себя очень одиноким, брошенным, и растроганным до слёз — всё, из-за её, Татьяны, сдавленного стона и дальше, быстрых горячих, непонятных слов, полных страстной благодарности, ещё звучавших в его ушах.
Когда Соколов возвратился в зал, увидел, что Татьяна уже сидит за столом именно там, где для себя и для неё он занимал место — значит, ей подсказали. Он пробрался к свободному стулу.
В момент, когда Соколов садился, Татьяна оглянулась на него. Удивительно бледное лицо, горящие глаза. Невозможно! Она взглянула на него из темноты своей страсти, из будущей ночи, которую уже отдала другому мужчине, и он понял, что видит красивейшую женщину на свете.
Потом, даже через много лет, когда он пробовал себе представлять женский, какой-то отвлечённый образ, эталоном истинной красоты женщины, в его воображении возникала именно Татьяна.
А сейчас он вглядывался в Татьяну, намеренно и субъективно: выискивая изъяны. Конечно, к тому, что произошло за гардеробной вешалкой, Соколов не имел никакого отношения. Но, сейчас-то он сидел рядом, чувствовал её плечом и всё время думал о назначенном Татьяной кому-то свидании.
Он был не в праве надеяться, не требовал ожидать от себя, что красоту женщины может воспринимать так неоднозначно, и что это вообще ему доступно.
Бесспорно, она была догутенберговски красива, одарённая свойственной только ей ослепляющей откровенностью, из-за которой, жестоко, углублялись и становились более насыщенными тёмные цвета, разгорались чёрным огнём зрачки и обозначались трещинки на губах, в которые заливался соус сладко-горького любопытства…
Однако её таинственность и лицемерная осторожность движений подразумевали какую-то страстность, и ещё превыше этого — стиль и жест.
Что же ещё нужно человечеству — только, чтобы красота жила в женщине как живое признание всех радостей и печалей прошлых веков? Чтобы она возбуждала любовь и ненависть, заставляла сегодняшний мир считаться с фактом её существования? Красота, описанная как чума, даже истинными визионерами в момент транса имеет значение лишь постольку, поскольку она обозначена. Описанная ими красота мучит, она наносит душе неисцелимые раны, и против неё надо бороться заклинаниями времён и пространств.
Может, как следствие жестоких привычек или склонностей, и ещё чего-то, настроения что ли, на этих поминках старомодного поэта, Соколову даже показалось, что красота рождается именно здесь, одним присутствием Тани. Жестом её руки, слабой улыбкой, взглядом, и для Соколова, смотревшего на неё, теперь удивлёнными, нет озабоченными глазами, многое оставалось непонятным.
Выходило, что быть жестокой ей не возбранялось: якобы самые неотразимые женщины жестоки, прежде, по отношению к самим себе.
— Зачем вы на меня так смотрите?
— Извините… Я уже отвёл глаза, и больше не смотрю на вас, Таня.
— Господи! Да вы как зачарованный, — она взяла его ложку, зачерпнула кутью, — откройте рот. Вот… Молодец… Теперь отвернитесь от меня. Смотрите прямо перед собой, — он подчинился ей как ребёнок, — возьмите в правую руку стакан с водкой. Пейте!
Соколов выпил водку и стал, сосредоточенно есть борщ. Выхлебал полтарелки, а потом, снова, опять, задумался-затуманился и потерял свою ложку в тарелке с борщом. Официантки уже разносили горячее, и всем налили по второму стакану.
— Что с вами? — услышал он голос Татьяны и повернулся. Её глаза находились на уровне его глаз, но в них не было участия, в них плясало откровенное безумие. — Не могу ли я чем-нибудь помочь?
— Мне никто не может помочь. Я сам виноват во всём. Хотя, знаете ли… может, объясните в двух словах, мне, поэту, что такое любовь?
— Хм… Прилично ли рассуждать о заблуждениях на поминках?
— Говорить о любви прилично и на поминках, и на свадьбах, и вообще… Но, только в том случае, когда в рассуждениях присутствует обязательность чувств.
— А что, если я вам отвечу, что любовь — это лекарство, от которого умирают сразу, — она пьяно посмотрела ему в глаза. — Тот мир, в котором вы должны умереть за любовь, не есть настоящий, истинный мир. Существует другой мир, в котором любовь живёт как боль.
— Это очень метафизично и супертелесно. А нельзя ли банальней, примитивней? Каков сценарий?
— Допустим, вы начинаете искать со мной встречи. Преследовать меня. Дарить цветы. Вы понимаете, что с помощь подарков можно сделать человека обязанным. Дальше. Вы соглашаетесь на всё, даже, бегать по поручениям, по магазинам, выполнять любые мои капризы, стать моим слугой и во всём мне угождать. Чтобы я к всему этому привыкла, стала зависеть от вас, доверилась бы вам полностью, и тогда в один прекрасный день вы подсыпали бы мне яду в кофе.
— Какая чушь… это немыслимо!
— Действительно… Яд — это не по-мужски. Вы задушите меня моими собственными колготками за то, что я не допила ваш кофе. Нет? Колготки — тоже пошло? Вижу по вашим глазам. Вы задушите меня голыми руками, как Стивен Роджек свою жену, в романе Нормана Мейлера «Американская мечта».
— Таких красивых, как вы, мужчины не душат вообще. Всякий раз, когда они сталкиваются с вами умышленно, каждый наверно готов швырнуть к вашим ногам свою грешную жизнь, за всё то, что составляет предмет его надежд и желаний, за всё то, что придаёт этим желаниям смысл.

Действие небольшой повести воронежского писателя Валерия Баранова «Жили-были други прадеды» переносит читателя и в дореволюционный период, и в дни Великой отечественной войны, и в советские годы застоя. Обращаясь к памятным страницам своей семьи, писатель создал очень ёмкое по времени действия произведение, важнейшей мыслью которого является историческая и родовая преемственность поколений. Автор призывает не забывать, что в нашей стране почти каждая семья была причастна к военным кампаниям двадцатого века, и что защищать свою Отчизну — дело чести всех её сынов.Книга продолжает серию «Воронежские писатели: век XXI», издаваемую правлением Воронежского отделения Союза писателей России, которая представляет довольно обширный пласт воронежской литературы начала двадцать первого столетия.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
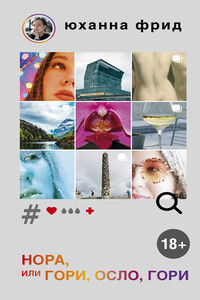
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
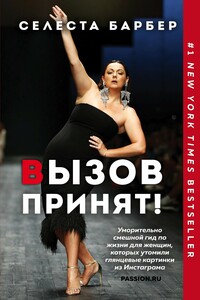
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
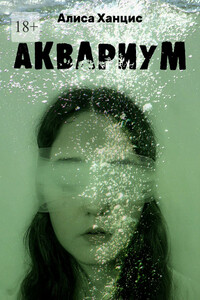
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.