Телевизор. Исповедь одного шпиона - [157]
– Ба, да ты же не знаешь ничего! – воскликнул Мишка. – У императрицы новый фаворит, Потемкин… Не люб более старый Гришка Е. И. В., другого Гришку ей подавай, молодого и дерзкого… Мелодрама!
Да, у нее есть эта чисто женская склонность к мелодрамам, подумал я; поэтому она так громко хлопала тогда, на премьере Заиры; она любит слезливые сцены и постоянно разыгрывает их в своей жизни.
– Слушай, Мишка, – сказал я. – У меня есть одна идея, просветительского свойства. В общем… не хочешь ли ты издавать свой собственный журнал? Чтобы в нем печатались новости обо всем, что творится в мире…
– Постой, постой, – премьер-министр поднял указательный палец, – дай соображу… То есть ты предлагаешь заработать кучу денег, сообщая некоторые новости быстрее остальных газет? А ты поумнел, брат! Идея мне нравится; нужно только типографию найти, а для этого деньги нужны.
– Можно кредит взять, – усмехнулся я. – Одна моя знакомая очень недурно живет в кредит…
– А как мы назовем журнал? Ага, понимаю…
Мишка все еще болтал, и считал что-то на пальцах, и с горящими глазами доказывал, что нужны не только новости, но и большие статьи, и литературные сочинения, и что нужно привлечь к изданию Фонвизина, и Чулкова[386], и еще какого-то Радищева, с которым он познакомился на петербургской таможне, а я думал только о том, что теперь я смогу не только видеть, но и говорить, ибо видение без слова мертво, как мертва наша любовь, ежели мы не отдаем ее своим близким.
Глава сто четырнадцатая,
в которой я арестован
Я жил все там же, в доме у Ивана Перфильевича, иногда помогая ему разбирать почту или выполняя иные мелкие поручения; я ездил по Петербургу, постепенно просыпавшемуся от зимней спячки, и поражался красоте этого города, которой я не замечал ранее. Бывало, я просто стоял на Тучковом мосту и смотрел на закат над рекою, или поздним вечером шел домой; все было в плотном тумане, и горевшие фонари светились мягким, сонным светом. Я приходил, падал на кровать, отлеживался, а потом поднимался и начинал писать, обо всем, что видел, и обо всем, что приходило мне в голову; потом показывал написанное Мишке, Мишка критиковал, говорил, что я не умею писать, как того требует просвещенная публика, и что нужно поручить написание другим людям. Но я упорно продолжал писать сам.
Как-то раз Иван Перфильевич сказал мне, что сегодня вечером приедет Иван Афанасьевич, чтобы проведать меня; я очень ждал его. Я был у себя, и услышав звон колокольчика, побежал по лестнице, но в прихожей Ивана Афанасьевича не было; вместо него там стояли трое гвардейцев, в дорожных плащах и шляпах. Увидев меня, повелительным жестом они попросили меня спуститься к ним.
– Юнкер Мухин, – сказал один преображенец, – по повелению генерал-прокурора Сената извольте следовать за мной. Вы арестованы по обвинению в причастности к заговору авантюристки Таракановой.
– Нет, нет, погодите! – ошалело пробормотал я. – Я был как раз на противоположной стороне; я следил за нею…
– В случае сопротивления я имею полное право стрелять без авертисмента, – казенно сказал гвардеец. – Я прошу вас сдать оружие, буде таковое у вас имеется. А эти господа, – он указал пальцем на своих товарищей, – проведут обыск в вашей комнате…
Боже мой! У меня на столе лежали заметки, которые я делал; я даже и подумать не мог, что их будет читать посторонний; да там столько всякого… Я посмотрел на стоявшего рядом Ивана Перфильевича; он постыдно молчал. Я тоже покраснел. Это была катастрофа.
Странная особенность Петербурга состоит в том, что здесь главная государственная тюрьма расположена прямо напротив императорской резиденции, и вы, как бы вы ни убеждали себя в обратном, постоянно надеетесь, что царица увидит вас, что она просто выйдет к окну Зимнего, подзовет к себе Панина или Потемкина, ткнет пальцем и спросит, кто и в какой камере сидит, и они скажут ей, кто и почему, и вдруг заступятся за тебя, и скажут, что тебя нужно выпустить, потому что это недоразумение.
Но ничего такого не происходило; я сидел в темной, сырой клетушке, построенной здесь всего несколькими годами ранее. Это была самая ужасная тюрьма из всех, в которых я до того побывал. Тесный кубрик на корабле Магомета, рагузский чулан и турецкая башня были не в пример суше, и чище, и лучше. Хуже всего было то, что это была своя, русская тюрьма.
Мне задавали одни и те же вопросы: кто я, и как меня зовут, и как я стал работать в К. И. Д., и зачем я ездил в Венецию, а потом вдруг оказался в Яицком городке, и еще какое отношение я имею к московскому бунту, и что я делал в лагере Румянцева. Я отвечал, как мог, врал, запинался, часто менял свои показания, и оттого еще более запутывался. Мне показывали мои письма, и заметки, и говорили мне, что я и сам, возможно, не догадываюсь, кто я. Возможно, говорили они, у вас расстройство личности, иначе как объяснить фантастическое неправдоподобие ваших слов? Якобы вас спас из Рагузы мичман Войнович, но этот мичман уже не служит в русском флоте, а сбежал в Англию. Якобы вы служили в русской армии; зачем же вы тогда ушли в отставку? Почему вы бросили университет? Как вы проникли в Москву, ежели она была окружена чумными карантинами? И, наконец, почему вы так часто в своих заметках упоминаете имена гг. Вольтера и Руссо, неужли эти гг. вам симпатичнее гг. Матфея и Иоанна? Эти люди, я имею в виду следователей Тайной экспедиции, кажется, просто не понимали, что мир нельзя ограничить карантинами и рескриптами; им казалось почему-то, что я должен был записывать каждый свой шаг и каждый раз перед тем, как перднуть, должен был спросить разрешения у своего начальства. Я отвечал им крайне дерзко, что я свободный человек, что у меня есть вольная, и что я люблю свою страну и свою императрицу, а мои политические убеждения касаются только меня одного. Они не понимали, продолжая нести бесконечную чушь, о том, что я виноват, и моя вина, как они убеждали меня, была в том, что я делал все
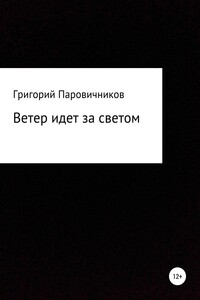
Размышления о тахионной природе воображения, протоколах дальней космической связи и различных, зачастую непредсказуемых формах, которые может принимать человеческое общение.

Среди мириад «хайку», «танка» и прочих японесок — кто их только не пишет теперь, на всех языках! — стихи Михаила Бару выделяются не только тем, что хороши, но и своей полной, безнадежной обруселостью. Собственно, потому они и хороши… Чудесная русская поэзия. Умная, ироничная, наблюдательная, добрая, лукавая. Крайне необходимая измученному постмодернизмом организму нашей словесности. Алексей Алехин, главный редактор журнала «Арион».

Как много мы забываем в череде дней, все эмоции просто затираются и становятся тусклыми. Великое искусство — помнить всё самое лучшее в своей жизни и отпускать печальное. Именно о моих воспоминаниях этот сборник. Лично я могу восстановить по нему линию жизни. Предлагаю Вам окунуться в мой мир ненадолго и взглянуть по сторонам моими глазами.

Книга включает в себя две монографии: «Христианство и социальный идеал (философия, право и социология индустриальной культуры)» и «Философия русской государственности», в которых излагаются основополагающие политические и правовые идеи западной культуры, а также противостоящие им основные начала православной политической мысли, как они раскрылись в истории нашего Отечества. Помимо этого, во второй части книги содержатся работы по церковной и политической публицистике, в которых раскрываются такие дискуссионные и актуальные темы, как имперская форма бытия государства, доктрина «Москва – Третий Рим» («Анти-Рим»), а также причины и следствия церковного раскола, возникшего между Константинопольской и Русской церквами в минувшие годы.

Любовь вашей жизни чересчур идеальна? Приглядитесь к ней повнимательней. А то кто знает с кем вам приходится иметь дело.

Небольшая пародия на жанр иронического детектива с элементами ненаучной фантастики. Поскольку полноценный роман я вряд ли потяну, то решил ограничиться небольшими вырезками. Как обычно жуткий бред:)