Тайна печали - [4]
В детской горела одна свеча.
Когда Евгения решительно отворила дверь, она увидала на противоположной стене высокую тень узорчатой спинки кровати и черный, безобразно вытянувшийся силуэт отца. Огонь свечи отклонился, и неподвижные тени на стене заколыхались, как будто охваченные волнением. Старик не заметил ничего. Он сидел на кровати дочери, низко опустив голову, и говорил что-то тихим, монотонным голосом, словно читал. Евгения остановилась.
— Все она увидит, все она поймет, — тихо говорил отец, — все она простит нам, девочка. И за каждого из нас, и за тебя, и за меня, и за Геню горячо и усердно помолится ее чистая душа, и бог услышит ее молитву, потому что наша мама теперь близка к богу, и он пошлет нам утешение, спокойствие и мир. Мама сделает так, что мы опять все, все сойдемся близко и тесно и не будем больше ни сердиться, ни раздражаться, а пожалеем друг друга за наше общее горе и будем нести его вместе дружно и покорно. И оно сблизит нас и сделает нас еще более дорогими друг другу. Спи, девочка, спи! Во сне ты будешь опять беззаботной и счастливой, а когда ты проснешься и вспомнишь, что твоей мамы нет с тобой, вспомни также, что остался с тобой твой старый отец, что он такой же слабый и виноватый, как ты, что оба мы с тобой не умеем покориться нашему горю, ты — потому, что ты еще мала, моя крошка, я — потому, что я стар, потому, что у меня уже мало силы. Оба мы равны в том, что у нас мало силы! И когда ты чувствуешь печаль, ты не сознаешь ее и глядишь своими тоскливыми, недоумевающими глазами; и когда горе гнетет меня, я не сознаю свою несправедливость, свою грубость к людям. Но если никто не понимает нас, если на нас сердятся, если на нас негодуют, мы понимаем друг друга, моя дочка. Мы знаем, что только горе, одно горе мешает нам быть добрыми и справедливыми, и мы знаем, что то же горе мешает быть добрыми и справедливыми к нам. Геня не сердится! Геня наша! Такая же любящая, печальная и несчастная, как мы. Еще несчастнее, быть может. Она не хочет быть с нами, она хочет быть одна, потому что у нее есть сила и она борется со своей печалью. Она видит, как мы слабы и беспомощны, и она отстранилась от нас… пока. Сильные не любят слабых, потому что с ними, среди них, теряют свои силы. Она не понимает нас, потому что ей нельзя понимать, чтобы бороться с собою; но она не разлюбила нас, Тата, нет! Она победит себя и вернется к нам. Она пожалеет нас и поймет, и простит…
Евгения, казалось, застыла на месте. Она прислонилась к косяку двери и, слушая отца, все ниже и ниже опускала голову. Лицо ее загоралось румянцем, и глаза медленно заволакивались слезами.
Отец говорил не для Татки. Татка не могла бы понять его, да она и спала, крепко и сладко спала, посапывая своим маленьким кругленьким носиком. Отец говорил для себя, говорил то, что наболело в его душе и о чем не сумел бы он сказать никому в целом мире.
— Папа! — осторожно, боясь испугать его, позвала Евгения. Но он все-таки вздрогнул, обернулся и молча указал на спящую девочку.
— Я знаю, — прошептала Евгения.
Быстро, но бесшумно подошла она к кроватке, опустилась на пол и прижалась губами к руке отца. Она почувствовала, как эта рука дрогнула, точно хотела вырваться, и потом сразу осталась неподвижной, и затем настала глубокая безмолвная тишина. Здесь, в этой комнате, не слышно было ни дождя, ни порывов ветра. Ветви не стучались в окна, плотно закрытые ставнями снаружи и занавешенные шторами внутри. По белой стене колыхались взволнованные тени, а единственным звуком, который мог уловить слух, было спокойное, ровное дыхание спящего ребенка.
Наконец рука опять сделала движение, медленно высвободилась и осторожно приподняла голову Евгении. Отец и дочь поглядели друг другу в глаза.
— Геня! — чуть слышно сказал старик, — веришь ли ты, что я долго не понимал, что горе делало меня несправедливым, жестоким?
— Не тебя одного, не тебя… — прошептала Евгения.
— А она, — продолжал отец, указывая на девочку, — она даже не сознает, что у нее есть горе. Когда ей говорят, что она стала нехорошая, злая, она верит… У нее нет оправдания. — Свободной рукой он оправлял на подушке разметавшиеся волосы маленькой Таты. — Нет оправдания, а в душе неясный протест, и боль, и недоумение. Когда я понял это, Геня, я узнал такую жалость, которую не испытывал еще никогда. Если я оскорбил тебя ею, Геня, прости! Ты уже не только дочь, ты — друг.
Они осторожно поднялись и, крепко обнявшись, глядели на маленькую спящую фигуру.
— Отчего я не знала? — с глубоким раскаянием спросила Евгения. — Отчего ты не сказал мне?
И когда они, все так же обнявшись, вышли из детской и, направляясь к зале, проходили через длинную темную анфиладу комнат, Евгения уже не удерживала слез и не старалась скрыть их от отца.
— Отчего мы все так много молчим? — спрашивала она. — Отчего мы все не хотим быть понятными друг другу? Отчего мы так мало доверяем любви, преданности, состраданию? Отчего, когда мы страдаем, мы делаемся скрытными, самолюбивыми и чувствуем себя так… так страшно одиноко, как будто и сами не любим никого?
Отец ласково целовал ее маленькую, тоненькую ручку.
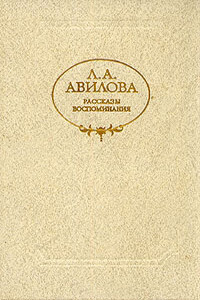
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Лидии Авиловой (1864–1943) развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А. П. Чехова. В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80 — 90-х годов, рассказывающие о премьерах чеховских пьес, о встречах автора с Л. Толстым и М. Горьким. Сборник дополняют отрывки из дневников писательницы и ее известная, неоднократно переиздававшаяся повесть-воспоминание «А. П. Чехов в моей жизни».
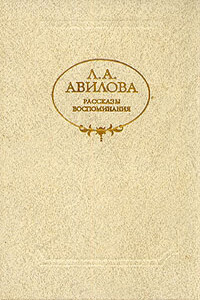
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

Русская писательница и мемуаристка Лидия Алексеевна Авилова (урожд. Страхова) родилась 3(15) июня 1864 г. в имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, в небогатой дворянской семье. В 1882 г. окончила гимназию в г. Москве. В 1887 г. вышла замуж и переехала из Москвы в Петербург, где началась ее литературная деятельность. В доме редактора и издателя «Петербургской газеты» С.Н. Худекова, мужа сестры, познакомилась со многими известными литераторами. С 1890 г. рассказы писательницы публикуются в петербургских газетах и журґналах.
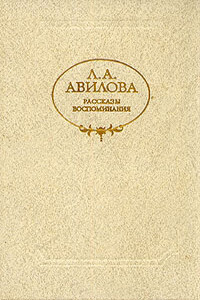
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.

Знаменитый писатель Глебов, оставив в Москве трёх своих любовниц, уезжает с четвёртой любовницей в Европу. В вагоне первого класса их ждёт упоительная ночь любви.
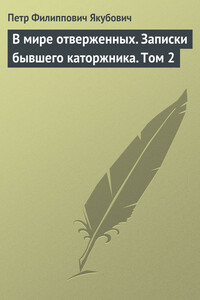
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
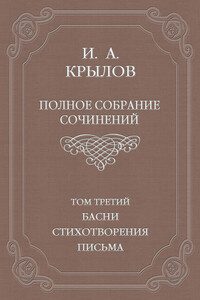
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
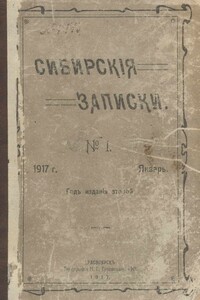
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.