Тайна печали - [3]
— Зачем ты притворяешься? — возмущенно спрашивала она. — Ты отлично знаешь, что ты виновата, что ты была упряма, капризна. Зачем ты делаешь вид, что тебя обидели, что к тебе несправедливы? Разве это хорошо?
Девочка молчала и глядела на сестру своим тоскливым, недоумевающим взглядом.
— Отчего ты не такая, какой была прежде, Тата? Ты была такая простая и милая. Ты никого не огорчала, никому не делала неприятностей. Теперь… ты прекрасно видишь, что папа на всех сердится из-за тебя: и на меня, и на Julie. Папа и без того болен и огорчен, и все мы огорчены и несчастны, а ты делаешь нас еще несчастнее. Ты была милая девочка, Тата; теперь ты… злая и нехорошая.
Девочка начинала громко плакать, а Евгения пугалась при одной мысли, что в эту минуту может войти отец. Из одного страха, без чувства сострадания или раскаяния, она принималась утешать сестру.
— Ну, не плачь! — принуждая себя казаться ласковой, говорила она и холодно целовала ее мокрые от слез щечки. — Ну, перестань! Не надо плакать, а надо стараться исправиться. И я верю, что ты исправишься… Да не плачь же! Или ты хочешь, чтобы папа услыхал и опять рассердился на меня?
Евгения действительно готова была заподозрить сестру, что она плакала только для того, чтобы обратить на себя внимание отца и навлечь на нее, Евгению, его гнев. Это маленькое восьмилетнее существо точно встало между нею в отцом в отодвинуло их далеко друг от друга. Тата никого не хотела знать, кроме отца; отец думал и заботился только о Тате; а Евгению возмущала и оскорбляла эта внезапная горячая симпатия, которую она не умела понять и которая оставляла ее в стороне, одинокой и как будто забытой. И при таких условиях ей предстояло провести целую долгую, бесконечную зиму! Ни отец, ни сестра не будут чувствовать тех лишений, которые предстоит перенести ей. Они заменят друг другу весь мир, и для них в тишине и глуши деревни найдутся доступные им радости и отрада. Отец стар и болен, сестра еще мала. У них нет сознания молодости, красоты, силы; им не надо ничего, кроме взаимных ласк. Зачем же и ей оставаться здесь, с ними? Жить день за днем скучной, бессодержательной жизнью, томиться тоской и одиночеством? Отчего никто не подумал о ней? не справился об ее желании, не позаботился об ее счастье?
Евгения ходила взад и вперед по большой полутемной зале, вдоль темных, заплаканных от дождя окон; и чем больше думала она о себе, о своем положении в доме, тем больше чувствовала она свое одиночество, тем тяжелее становилось у нее на душе; точно и в ней, в этой молодой, еще неокрепшей душе, бушевала осенняя непогода, налетали порывы бури и ломали и выбрасывали вон те чувства, которые прежде давали ей счастье и радость. Если никто не думая о ней, если никто не любил ее, она тоже не хотела думать ни о ком, не хотела любить никого.
Навстречу ей из темной гостиной вышла француженка и с видом крайнего утомления бросилась на первый попавшийся стул.
— Ah! C'est trop fort, — сказала она. — После смерти madame в этом доме все так изменилось, что выносить этой жизни я больше не в силах. Я уезжаю!
— Что случилось? — испуганно спросила Евгения.
Julie пожала плечами.
— Ничего! — сказала она. — Ничего! Ваш отец там, у Таta. Эта девочка за что-то возненавидела меня, и я не знаю, что она сказала monsieur, но в он совершенно переменялся по отношению ко мне. Он очень вежлив… О! я ни в чем не упрекаю его, но я чувствую, что он перестал мне доверять. Еще сейчас он так подозрительно расспрашивал меня, о чем я говорила с Tata, в каких выражениях я говорила. Боже мой! Я уже четыре года при этом ребенке, я уже успела полюбить его! — Она закрыла лицо руками и заплакала. — Я считала себя родной в вашем доме; мне дали почувствовать, что я чужая, и лучше будет… лучше будет, если я уеду. Евгения стояла, слушала жалобы Julie и смотрела, как она плачет.
— Зачем я буду жить в доме, где я не нужна? — продолжала француженка.- Monsieur не доверяет мне больше воспитание Tata, он хочет заняться им сам. Он слишком деликатен, чтобы сказать это прямо, но это ясно из его поведения, из его постоянного недовольства мною… Ах! что это такое? — вдруг испуганно вскрикнула она и отняла руки от лица.
— Это ветка стучит в окно! — спокойно сказала Евгения. — Это ветер. Не бойтесь.
Француженка приложила руку к груди и замолчала, глядя перед собой печальными, заплаканными глазами.
— Жить здесь в глуши, в одиночестве, — наконец тихо проговорила она, — чувствовать к себе неприязнь, недоверие…
— Нет, этого не будет! — вдруг твердо и решительно сказала Евгения. — Или вы не уедете и все останется по-старому, или я уеду вместе с вами. Теперь мое решение принято, и оно не может измениться.
Она вся выпрямилась, точно выросла, и в ее темных, нежных, всегда приветливых глазах мелькнуло жесткое упрямое выражение.
— Отец в детской? — стараясь казаться как можно спокойнее, спросила она.
— Да, они там вдвоем. Tata объявила, что не хочет спать, и monsieur сидит у нее на постели.
— Если она не хочет спать, тем лучше! — сказала Евгения. — Мы, наконец, поговорим и втроем.
Она подняла голову так, как будто хотела придать себе как можно больше храбрости, и, сдерживая волнение, от которого сразу похолодели ее руки, спокойным и ровным шагом направилась в гостиную.
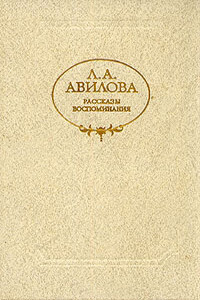
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Лидии Авиловой (1864–1943) развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А. П. Чехова. В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80 — 90-х годов, рассказывающие о премьерах чеховских пьес, о встречах автора с Л. Толстым и М. Горьким. Сборник дополняют отрывки из дневников писательницы и ее известная, неоднократно переиздававшаяся повесть-воспоминание «А. П. Чехов в моей жизни».
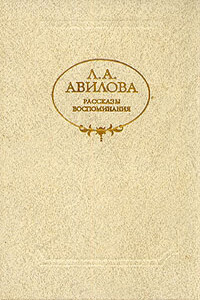
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

Русская писательница и мемуаристка Лидия Алексеевна Авилова (урожд. Страхова) родилась 3(15) июня 1864 г. в имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, в небогатой дворянской семье. В 1882 г. окончила гимназию в г. Москве. В 1887 г. вышла замуж и переехала из Москвы в Петербург, где началась ее литературная деятельность. В доме редактора и издателя «Петербургской газеты» С.Н. Худекова, мужа сестры, познакомилась со многими известными литераторами. С 1890 г. рассказы писательницы публикуются в петербургских газетах и журґналах.
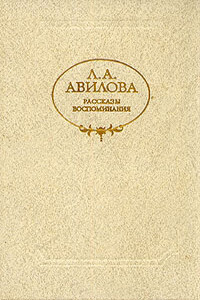
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.

Знаменитый писатель Глебов, оставив в Москве трёх своих любовниц, уезжает с четвёртой любовницей в Европу. В вагоне первого класса их ждёт упоительная ночь любви.
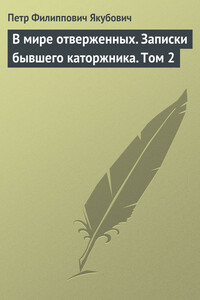
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
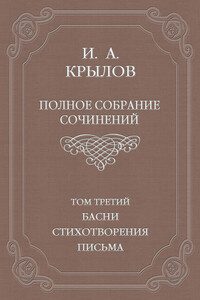
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
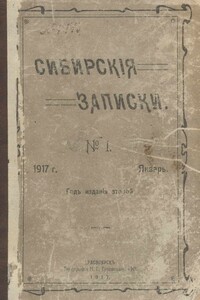
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.