Тайна исповеди - [2]
Да, в бытность мою школьником я страдал от того, что не мог хвастать: вот, мой дед Ленина видел! Ну, не разговаривал с ним, так хоть видел, живьем — даже это утешило бы меня. Я бы сделался внуком почти небожителя! По крайней мере, в собственных тогдашних глазах.
Несколько поздней я попал под власть странной мощной мысли. И вот какой. Дед, который был моим главным воспитателем, — мог точно так же, как я ему, заглядывать в глаза своему деду, страстно желая понять, как же устроен этот мир и по каким законам обязаны жить лучшие люди (если не числить себя среди них, то что ж это за жизнь, в самом-то деле?). А его старик вполне мог родиться ну, скажем, в 1837-м пушкинском году (или даже лучше в 1836-м и младенцем успеть увидеть нашего классика, пусть даже не осознавая величия момента) с тем, чтоб в 70 или 75 воспитывать пацана-внука. И тогда выходило бы, что, когда случилась «беда», в 1861-м-то, мой прапрадед был уже взрослым сложившимся мужиком.
И — вот какая тут рисуется конструкция — меня растил воспитанник раба! Мой дед, родной и замечательный, которому я доверял совершенно, и, не признаваясь в этом никому, на которого хотел быть похож, — ну мог ли успеть выдавить из себя раба? Вот за этот один шаг, этот даже шажок, длиной в два рукопожатия? От его деда — до его внука? Он мне не говорил ничего такого, да, небось и не думал про это.
Дед был то ли конфуцианец, то ли человек римских доблестей. Он шел неким своим путем, жил по своим железным правилам, будучи уверенным в своей правоте и копя доказательства тому. И легко их предъявлял, если надо было, — к примеру, мог продемонстрировать искалеченную на фронте ногу ну или ордена, прицепленные к парадному пиджаку.
И вот в мою детскую досужую голову эта мысль пришла, растекаясь по древу, — про рабство. Сильно! Я копался в своих ощущениях и движениях души, пытаясь определить — есть во мне что-то рабское, а если да, то — как оно и в чем проявляется? Где притаилось, за чем спряталось, под что мимикрирует? Во что перекрасилась, чем заслонилась эта позорная правда? Чем же таким школьным и казенным обернут этот жгучий позор так, чтоб не спалить всё благородное и идеальное, что, типа, имелось в наличии? Выдавилось это рабство? А вдруг — думал я — оно никуда не делось? И не денется никогда? Может же так быть, что это клеймо не стирается, не выжигается, не перекрывается каким-то новым тавром — а остается на всю жизнь. «На лбу и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте» — это про каторжника, но всё равно же! Чем их сведешь? Ничем. Не только на всю жизнь такое остается — но даже и выходит за ее пределы? Передаваясь по наследству и перебрасываясь в новые поколения? И вот потомки и наследники рабов, плодясь и размножаясь, как по писаному — потом строят себе страну, какая им нужна, в какой им, подневольным персонажам, комфортно? Гоня и давя чужих, не понимая, по какому признаку и отчего те кажутся, объявлены чужими? «Смерть свободным»? Которые могли же как-то сохраниться, выжить, дать потомство? Раб и свободный — можно ли придумать более чужих и взаимно ненавистных друг другу персонажей?
Страшно неприятна эта мысль про рабство, ее неохота думать, и делиться ею — тоже не очень…
Как-то спасало ситуацию — в моих глазах, по крайней мере — то, что дед был не раб, то есть, конечно, раб, но не такой как все, а — раб взбунтовавшийся, восставший! Что делало картинку не стыдной, но романтической и привлекательной. А деда, и заодно меня — как бы героями. Ну, Спартак и прочее в таком духе.
Я любил рассматривать старую желто-коричневую, сепия, фотку, копию копии копии, на которой дед — на тот момент не дед, конечно, а его как бы личинка, 20-летний парень — стоит с двумя сослуживцами. Мне было больно от того, что на дедовской голове — фуражка, а не буденовка, как у того, что слева, а на поясе кобура с — навскидку — банальным наганом, а не деревянная коробка с экзотическим артхаусным маузером (предшественником элитного Стечкина, который тоже со съемным прикладом), как у того, что справа. «Со старой отцовской буденовки, Что где-то в шкафу мы нашли» — этот головной убор казался мне, тогда, восхитительным. Все помнят, что эту богатырку изобрел Васнецов, по заказу царя, в 1916-м — для парадов победы в единственной на тот момент мировой и пройти они должны были в Берлине и Стамбуле. Да, так вот маузер — не тот маленький, как бы дамский, из какого персонаж гайдаровской «Школы» застрелил белого мальчика-кадета в рамках допустимой самообороны, — а другой, «настоящий», длинный, нескладный, прекрасный в своей неуклюжести, смахивающий на некий стремительный легкий танк. Ствол тот был тоже не просто оружием, а — звездой, кинозвездой, дизайн разил наповал. Оружие, похожее на аиста — по крайней мере, на того, что отправлялся в полет с молдавской коньячной этикетки, в те времена, когда совецкий коньяк считался благородным «элитным» напитком и стоил 8 руб. 12 коп., плевать какой — от армянского до одесского.
Целую кучу таких маузеров я увидел позже в имении Кадырова-младшего, в Центарое. Вот буквально кучу — она была свалена на ковре посреди комнаты. В шкафах и на полках подарки не помещались, их же всё везли и везли. Маузеры те были все разные: с длинным стволом, с коротким, такие, сякие, серебристые, золотистые, с инкрустацией и без… Кажется, они начались еще в XIX веке, и кого только из них не убивали! Если говорить про Восток, то самая яркая картинка — это Черный Абдула вот с таким именно стволом, уроненным из руки после красивого, от бедра, выстрела красноармейца Сухова. Еще я увидел у Рамзана богатую коллекцию сабель, старинных, покрытых арабской вязью. Сколько белых людей порубили ими абреки! Сколько русской крови с них вытерто полами каких-то драных бешметов, о!
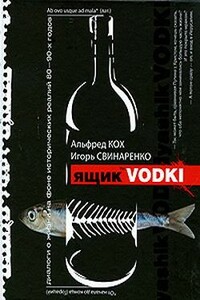
Два циничных алкоголика, два бабника, два матерщинника, два лимитчика – хохол и немец – планомерно и упорно глумятся над русским народом, над его историей – древнейшей, новейшей и будущей…Два романтических юноши, два писателя, два москвича, два русских человека – хохол и немец – устроили балаган: отложили дела, сели к компьютерам, зарылись в энциклопедии, разогнали дружков, бросили пить, тридцать три раза поцапались, споря: оставлять мат или ну его; разругались на всю жизнь; помирились – и написали книгу «Ящик водки».Читайте запоем.
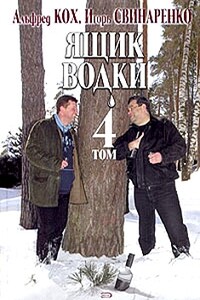
Эта книга — рвотное средство, в самом хорошем, медицинском значении этого слова. А то, что Кох-Свинаренко разыскали его в каждой точке (где были) земного шара, — никакой не космополитизм, а патриотизм самой высшей пробы. В том смысле, что не только наша Родина — полное говно, но и все чужие Родины тоже. Хотя наша все-таки — самая вонючая.И если вам после прочтения четвертого «Ящика» так не покажется, значит, вы давно не перечитывали первый. А между первой и второй — перерывчик небольшой. И так далее... Клоню к тому, что перед вами самая настоящая настольная книга.И еще, книгу эту обязательно надо прочесть детям.

Широко известный в узких кругах репортер Свинаренко написал книжку о приключениях и любовных похождениях своего друга. Который пожелал остаться неизвестным, скрывшись под псевдонимом Егор Севастопольский.Книжка совершенно правдивая, как ни трудно в это поверить. Там полно драк, путешествий по планете, смертельного риска, поэзии, секса и – как ни странно – большой и чистой любви, которая, как многие привыкли думать, встречается только в дамских романах. Ан нет!Оказывается, и простой русский мужик умеет любить, причем так возвышенно, как бабам и не снилось.Читайте! Вы узнаете из этой книги много нового о жизни.
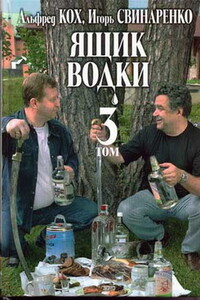
Выпьем с горя. Где же ящик? В России редко пьют на радостях. Даже, как видите, молодой Пушкин, имевший прекрасные виды на будущее, талант и имение, сидя в этом имении, пил с любимой няней именно с горя. Так что имеющий украинские корни журналист Игорь Свинаренко (кликуха Свин, он же Хохол) и дитя двух культур, сумрачного германского гения и рискового русского «авося» (вот она, энергетика русского бизнеса!), знаменитый реформатор чаадаевского толка А.Р. Кох (попросту Алик) не стали исключением. Они допили пятнадцатую бутылку из ящика водки, который оказался для них ящиком (ларчиком, кейсом, барсеткой, кубышкой) Пандоры.
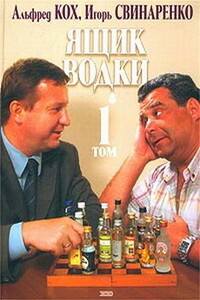
Одну книжку на двоих пишут самый неформатно-колоритный бизнесмен России Альфред Кох и самый неформатно-колоритный журналист Игорь Свинаренко.Кох был министром и вице-премьером, прославился книжкой про приватизацию — скандал назывался «Дело писателей», потом боями за медиа-активы и прочее, прочее. Игорь Свинаренко служил журналистом на Украине, в России и Америке, возглавлял даже глянцевый журнал «Домовой», издал уйму книг, признавался репортером года и прочее. О времени и о себе, о вчера и сегодня — Альфред Кох и Игорь Свинаренко.

Альфред Кох и Игорь Свинаренко написали новую книгу, вдохновившись успехов предыдущей («Ящик водки»).Отходняк – довольно важное для русских состояние. Оно бывает мучительным – но и продуктивным и креативным тоже. В таком состоянии мы иногда совершаем открытия и постигаем истины. Узнаем новое и важное, принципиально важное, о себе и других людях. О жизни.Что б вы ни говорили, отходняк никогда не бывает скучным.Кстати, «Ящик водки» этой весной вышел в Америке. Непросто было перевести его на английский. Перевести на другой язык такую вещь, как «Отходняк», будет потруднее…

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.