Там, за облаками… - [18]
На высоте наглухо закрытая облаками земля временами начинала казаться почти нереальной. Высота как бы лишала воспоминания о ней, ее живых красках, ее живом тепле, и он часто испытывал к ней минуты любви, такой обжигающе острой, как внезапная спазма сердца. Так мучительно прозревают, когда прощаются с тем, что любит, и начинают понимать, как единственно, как незаменимо то, что оставили.
Возвращаясь, он находил все, что любил здесь и помнил, еще более прекрасным, и тогда переживал чувство благодарности к земле за то, что была она неизменно доброй и щедрой, каким бы он ни вернулся, и просто за то, что она была.
Здесь он понял однажды, что если есть что-то высшее в мире, ради чего стоит жить, так это ради земли, из рук которой получил когда-то самое большое счастье, каким она только может одарить человека. — счастье родиться. Счастье жить под ее небом. Счастье дышать ее воздухом, пить воду ее родников, знать, что, если отвернутся однажды даже самые близкие из близких, она не оставит, она успокоит, снимет боль и поможет найти заблудившемуся дорогу.
Здесь он понял, быть может, самое главное, за что любил свое дело: за возможность знать минуты такой благодарной любви, которые давали ему силы на преодоление однообразных будней.
Две любви жили в нем; одна не могла без другой, и вместе это и было, наверное, то самое, что делало его летчиком так же, может быть, медленно и так же трудно, как трудно рождается неповторимость заката или форма цветка.
Утро пахло тающими туманами. Мараховский вспомнил, какой редкой голубизны, неожиданной под небом огромного города, неизменно подернутым сизым дымным налетом, бывала по утрам, на восходе солнца, вода в Рублеве. Вспомнил напряженную тонкую дрожь лески, стремительно скользящей в глубину, блеск тяжелой росы на травах и ощущение той особенной, легкой и крепкой уверенности, которую всегда рождала в нем покойная тишина еще не подчиненных дневным заботам минут. Ощущение это было, как второе дыхание.
А потом он представил себе все, что ждало его в нынешнем дне, за еще отдаленной гранью, и снова привычно нахлынули на него свист ветра над бетоном, рев работающих двигателей, напряженное ожидание, подчиняющее себе все и вся, потому что им и живут от века все аэропорты земли, эти пристани вечных прощаний. Все это увидел он снова с привычной отчетливостью, и желание надышаться утренней тишиной прежде, чем закрутит водоворот дня, окрепло в нем и ощущалось теперь как необходимость. Так бегуну необходима последняя секунда перед выстрелом стартового пистолета. Она должна принадлежать только ему, эта секунда, когда он может собраться и как бы взять для себя сил у земли, коснувшись ее ладонями прежде, чем бросит свое тело в схватку со скоростью.
Он собрался легко и быстро и поехал в Рублево «на перекладных» — на полупустых и медленных еще в этот ранний час автобусах, по которым гуляли веселые сквозняки. И пока ехал, медленно таяло в нем состояние той хотя и привычной, но все равно тягостной пустоты, которая всегда приходит после каждого завершенного рейса, когда кажется, что вот в этом полете выложился весь, до конца, отдал все, что мог, и теперь уже никогда и ничего больше не сможешь. Тяжесть эта теперь таяла в нем, и на смену холоду пустоты поднималось медленной теплой волной желание снова испытать и пережить все то, что столько раз уже было пережито. Значит, живем, сказал он себе, и живем правильно, если хочется перемен.
В Рублеве он сразу вышел на свое, давно облюбованное место. Берег здесь был плоский, в низких травах и редком лозняке, не на чем было задержаться взгляду, но именно своей неутомляющей пустынностью и привлекал Мараховского здешний пейзаж: пестроты перед глазами ему в полетах хватало и так.
Переспелая роса лежала на травах тяжелой парчой. И перво-наперво он умылся росой. С детства, с бабкиных рассказов еще, и доныне жила в нем мальчишеская вера в то, что у тех, кто умывается по утрам студеной росой, прибывает силы и доброты. Это были детские суеверия, конечно, и всерьез он к ним относиться не думал, но берег это в себе, как берег все, что освящено было памятью детства.
Потом он накопал червей у кромки берега и не спеша приготовил улочку, испытывая удовольствие уже от одного только этого занятия. Оно освобождало его от забот сиюминутных для главных забот, что уже ждали его где-то за гранью своего часа.
Пристроив удилище, он раскурил свою первую за это утро сигарету; следил, как вьется, тает над самой водой, сливаясь с ней цветом и исчезая бесследно, синеватый дым, и в нем самом словно бы таяло что-то, от какого-то груза освобождалась душа. И он даже невольно притих, чтобы ненароком не спугнуть этой минуты.
Солнце еще лежало за горизонтом, неровно изломанным силуэтом громадно раскинувшегося города. Но с каждой минутой небо светлело, все легче делались дальние очертания, как будто чья-то рука осторожно размывала акварельный рисунок на холодном тонком стекле. И вот беззвучно перелился через гряду крыш солнечный свет. Город в отдалении сделался легким, невесомым, почти как мираж. Он теперь словно бы парил над самой землей или плыл по сверкающему потоку, набиравшему силу. Там, на другом берегу потока, словно на просторе иной земли, остались все привычные звуки и голоса дня: здесь, у волы, слышал Мараховский только редкие осторожные шорохи ветра в траве да тихий звон капель, срывавшихся с лески. И еще была тишина, в которой почувствовал он себя затерявшимся, как мальчишкой терялся в лесах, и покой, который жадно впитывал он, готовя себя к тому условному часу, за чертой которого ничего этого уже не будет.

Бестселлер «В поисках правосудия: Арест активов» наглядно показывает, как путинская коррупция и жажда власти стала причиной вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и войны против Украины.
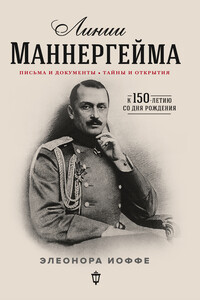
Густав Маннергейм – одна из самых сложных и драматических фигур в политике XX века: отпрыск обедневшего шведского рода, гвардеец, прожигавший жизнь в Петербурге, путешественник-разведчик, проникший в таинственные районы Азии, боевой генерал, сражавшийся с японцами и немцами, лидер Белого движения в Финляндии, жестоко подавивший красных финнов, полководец, противостоявший мощи Красной армии, вступивший в союз с Гитлером, но отказавшийся штурмовать Ленинград… Биография, составленная на огромном архивном материале, открывает нового Маннергейма.

Александр Степанович Кучин – полярный исследователь, гидрограф, капитан, единственный русский, включённый в экспедицию Р. Амундсена на Южный полюс по рекомендации Ф. Нансена. Он погиб в экспедиции В. Русанова в возрасте 25 лет. Молодой капитан русановского «Геркулеса», Кучин владел норвежским языком, составил русско-норвежский словарь морских терминов, вёл дневниковые записи. До настоящего времени не существовало ни одной монографии, рассказывающей о жизни этого замечательного человека, безусловно достойного памяти и уважения потомков.Автор книги, сотрудник Архангельского краеведческого музея Людмила Анатольевна Симакова, многие годы занимающаяся исследованием жизни Александра Кучина, собрала интересные материалы о нём, а также обнаружила ранее неизвестные архивные документы.Написанная ею книга дополнена редкими фотографиями и дневником А. Кучина, а также снабжена послесловием профессора П. Боярского.
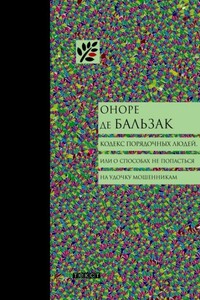
Прежде чем начать выставлять на титульном листе свое имя, Оноре де Бальзак (1799–1850) опубликовал немало сочинений под псевдонимами или вовсе без подписи. Последующие произведения автора «Человеческой комедии» заслонили его раннюю прозу, а между тем многие особенности позднейшей манеры писателя присутствуют уже в этих первых пробах пера. Таков «Кодекс порядочных людей» (1825) — иронический трактат о том, как «не попасться на удочку мошенникам». Мало того что он написан с блеском и остроумием, отличающими произведения зрелого Бальзака; многие из рекомендаций, которые дает автор читателям, жившим почти два века назад, остаются в силе и поныне, поскольку мы и сегодня так же доверчивы, а мошенники по-прежнему изворотливы и изобретательны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «Продолжение ЖЖизни» основана на интернет-дневнике Евгения Гришковца.Еще один год жизни. Нормальной человеческой жизни, в которую добавляются ненормальности жизни артистической. Всего год или целый год.Возможность чуть отмотать назад и остановиться. Сравнить впечатления от пережитого или увиденного. Порадоваться совпадению или не согласиться. Рассмотреть. Почувствовать. Свою собственную жизнь.В книге использованы фотографии Александра Гронского и Дениса Савинова.