Там, за облаками… - [17]
Иной, что ему ни толкуй, все равно тащит с собой прямо на место все свои узлы. Желает, чтобы все непременно при нем было, потому, что он, видите ли, никому тут не доверяет. И вот уже всех оскорбил. И люди, которые еще минуту назад так хорошо друг другу улыбались, теперь друг на друга смотреть не могут. И полет, который для всех мог стать маленьким праздником, становится мучением. И неизвестно, когда еще отмоется с души гадкий осадок, да и всегда ли он бесследно исчезает, все ли забывается?
А весь спрос с тебя: как допустила?
А иной прямо-таки весь заходится от удовольствия, когда то и дело жмет кнопку вызова, и ты на каждый вызов приходишь, потому что обязана приходить. А ему то чай не того сорта, то нарзану вместо боржома дай. «Я за весь этот ваш сервис заплатил, вот и давай поворачивайся». В тебе уже все кипит, но молчишь: и этот тоже должен сойти с самолета в полной уверенности, что он тебя своим обществом осчастливил.
Вот и считай, кто она по профессиональным качествам — бортпроводница?
Умения сразу и безошибочно угадывать людей и сразу находить верный тон разговора, выдержки, такта и самообладания ей требуется не меньше, чем хорошей учительнице. «Чувство партнера» должно быть развито, как в хорошем актере. Да и легче актерам: отыграли спектакль — можно отдохнуть до следующего вечера. А мы не успеем одних проводить, смотришь, уже обратные пассажиры к самолету идут. И все начинается сначала. И опять не знаешь, каким окажется рейс: и люди приходит новые, и ты сама в чем-то уже как будто другой человек.
А ведь и нам тоже солнце в душу светит не каждый день, и у нас у каждой своего, человеческого, хватает — и радостей, и печалей.
Устанешь от них. В отчаяние приходишь. Но каждый раз все равно их ждешь. Потому что только с ними, с людьми, и среди них можно научиться понимать по-настоящему, что же такое добро, и что — зло».
3
…Когда напряжение, накапливаясь от полета к полету, поднималось в нем до той, невидимой окружающим, но в нем самом отчетливо обозначенной нараставшей тревогой красной черты, за которой мог произойти любой срыв, потому что за ней уже лежала равнодушная, опустошающая усталость, Мараховский покупал билет на первую подворачивавшуюся по времени под руку дальнюю электричку — все равно, с какого вокзала она отправлялась и какая при этом погода была на дворе.
И каждый раз, стоило электричке вырваться из гулкой каменной городской тесноты на волю пригородных равнин, в нем словно бы отпускало что-то. Как будто чуть слабела туго закрученная пружина, когда далеко впереди, за медленно наплывающим пространством, у самого заката неба, узкой и смутной еще синей полосой обозначались леса.
Странной, необъяснимой и сильной властью обладали они. Каждый раз он входил в их как бы обособленный мир восторженным мальчишкой, притихшим растерянно перед непостижимо щедрой огромностью того, что здесь ему открывалось.
…По весне полой водой стояла в лесах ослепительная голубизна. Она была такой глубокой чистоты и пронзительной свежести, что казалась почти нереальной. Глаза, привыкшие в спешке дней, в нарастающем темпе века видеть окружающее стремительно, почти неразличимо летящим мимо, слепли от этой голубизны, неслышно снимавшей с них, воспаленных, смутную какую-то боль. И припоминалось вдруг: да ведь когда-то такое уж было, голубизна эта была, растворявшая в себе, захлестывавшая и очищавшая сердце, — в детстве, вот когда это было. И словно бы струна какая-то тихо отзывалась в душе, когда вставало в сознании само это слово «детство» и то, что было за ним. И хотелось родиться снова, чтобы войти в этот хрупко-прозрачный и доверчивый мир новым, чистым, как в детстве в него входил — в те ясные дни, когда все на свете дороги казались только прямыми и радость была только радостью и не несла в себе, как теперь, привкуса сожаления о том, что ничему в жизни не дано повториться. И новым содержанием и даже словно бы новым смыслом наполнялось давнее «как жить?»…
Летом леса шумели бесконечным дождем. Он затихал, когда затихали ветры, а потом снова дождевой плеск листвы заполнял собой все от горизонта до горизонта, и тепло было от солнца в зеленом полусумраке этого не проливавшегося наземь дождя, и загадочно было от криков невидимых птиц. Влажным серебряным блеском мерцали лесные озера. На их берегах душа, невидимо омытая озерной прохладой, легко освобождалась от боли обид и разочарований и к разгоряченным мыслям возвращалась та необходимая спокойная определенность, без которой нельзя жить.
Особняком хранила память воспоминания о ночных привалах, о тех остро-тревожных часах, когда ночь, беззвучно падая на землю с головокружительной высоты, сжимала видимый мир до размеров крохотной точки в пространстве и как бы надвое делила всю жизнь. И он оставался, затерявшись посреди ночи, один на один с собой, с тем, чем он был, чего стоил, а по другую сторону темноты, словно на другой чаше весов, выстраивалось все, что было его жизнью, смыслом ее и наполнением: дом, семья, работа, любовь, друзья и недруги, радости и огорчения, надежды и планы на завтра. Одни на один с собой посередине застывшей молчаливостью ночи, как бы изъятый из времени и отделенный от себя самого, он мог всмотреться в свою жизнь и оценить, чего она стоила, спокойно и беспристрастно. Только собственная совесть была судьей в такие часы да сознание абсолютного совершенства природы, от власти которого никуда не уйти. Рядом с ним так обостренно-отчетливо было видно собственное человеческое несовершенство и не такой уж ладной оказывалась вдруг на поверку собственная жизнь, еще недавно представлявшаяся организованной так надежно и так безошибочно верно продуманной наперед…

Бестселлер «В поисках правосудия: Арест активов» наглядно показывает, как путинская коррупция и жажда власти стала причиной вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и войны против Украины.
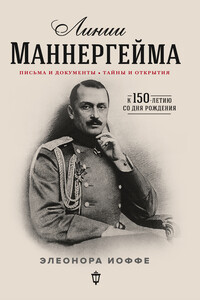
Густав Маннергейм – одна из самых сложных и драматических фигур в политике XX века: отпрыск обедневшего шведского рода, гвардеец, прожигавший жизнь в Петербурге, путешественник-разведчик, проникший в таинственные районы Азии, боевой генерал, сражавшийся с японцами и немцами, лидер Белого движения в Финляндии, жестоко подавивший красных финнов, полководец, противостоявший мощи Красной армии, вступивший в союз с Гитлером, но отказавшийся штурмовать Ленинград… Биография, составленная на огромном архивном материале, открывает нового Маннергейма.

Александр Степанович Кучин – полярный исследователь, гидрограф, капитан, единственный русский, включённый в экспедицию Р. Амундсена на Южный полюс по рекомендации Ф. Нансена. Он погиб в экспедиции В. Русанова в возрасте 25 лет. Молодой капитан русановского «Геркулеса», Кучин владел норвежским языком, составил русско-норвежский словарь морских терминов, вёл дневниковые записи. До настоящего времени не существовало ни одной монографии, рассказывающей о жизни этого замечательного человека, безусловно достойного памяти и уважения потомков.Автор книги, сотрудник Архангельского краеведческого музея Людмила Анатольевна Симакова, многие годы занимающаяся исследованием жизни Александра Кучина, собрала интересные материалы о нём, а также обнаружила ранее неизвестные архивные документы.Написанная ею книга дополнена редкими фотографиями и дневником А. Кучина, а также снабжена послесловием профессора П. Боярского.
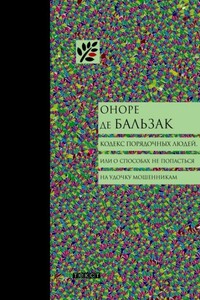
Прежде чем начать выставлять на титульном листе свое имя, Оноре де Бальзак (1799–1850) опубликовал немало сочинений под псевдонимами или вовсе без подписи. Последующие произведения автора «Человеческой комедии» заслонили его раннюю прозу, а между тем многие особенности позднейшей манеры писателя присутствуют уже в этих первых пробах пера. Таков «Кодекс порядочных людей» (1825) — иронический трактат о том, как «не попасться на удочку мошенникам». Мало того что он написан с блеском и остроумием, отличающими произведения зрелого Бальзака; многие из рекомендаций, которые дает автор читателям, жившим почти два века назад, остаются в силе и поныне, поскольку мы и сегодня так же доверчивы, а мошенники по-прежнему изворотливы и изобретательны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «Продолжение ЖЖизни» основана на интернет-дневнике Евгения Гришковца.Еще один год жизни. Нормальной человеческой жизни, в которую добавляются ненормальности жизни артистической. Всего год или целый год.Возможность чуть отмотать назад и остановиться. Сравнить впечатления от пережитого или увиденного. Порадоваться совпадению или не согласиться. Рассмотреть. Почувствовать. Свою собственную жизнь.В книге использованы фотографии Александра Гронского и Дениса Савинова.