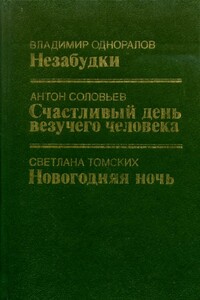— Во! Остатки — сладки. Пьем самое сладкое. По… по… по… лам. — Запинался на каждом слове Драндулет. — Пьем и поем. Тихо! — Драндулет запел, завыл по-собачьи.- — Перестройка, перестройка… По России мчится тройка… Кони белые храпят — шибко бегать не хотят… Не хотят, — сказал он вдруг совсем трезвым голосом и поставил недопитый стакан на стол. — Не хотят. Начальству эта перестройка — кость поперек горла. Понял? — Драндулет качался на табуретке и говорил с обидой: — Меня развитой социализм в гроб загнал. Я во все идеи разуверился. В душу мне наплевали… Душа была… как у ребенка… всем словам хорошим верил… потом забастовал… никакой философии не верю. Эх, пить будем! Гулять будем, — запел снова Драндулет, — а смерть придет — помирать станем… Пей! — протянул он стакан Андрюше.
Андрюша не двигался.
— Пей! — волосатый рыжий кулак упал на стол. — Пей! Мать твою Дарданеллы!
Андрюша испуганно вжался в угол кухни.
— То-то, — смягчил голос Драндулет. — На! — Он тяжело поднялся и, шатаясь, подошел к Андрюше. — Давай выпьем, Андрюха, на брудершафт. — Драндулет опустился на колени перед Андрюшей, захватил его руку своей ручищей в кольцо, а другой — сунул ему стакан в рот. — Пей! За… за… кашалотов… за… за… пере…
Андрюша задохнулся жидким огнем, толкнул из всех сил Драндулета и выбежал во двор…
На воздухе ему стало легче, хотя в груди продолжало жечь, и кружилась медленно голова, предметы плыли перед ним…
Дождь перестал, небо по-прежнему давило свинцовой тяжестью. Андрюша повернулся к лесу; может, там прояснило? Почему-то подумалось: покажется сейчас проталинка голубого неба, и ему сразу полегчает. Но над лесом он опять увидел тучу, шла она к деревне. «Вернулась», — похолодел он, не зная, то ли бежать куда-нибудь, то ли вернуться в дом. И тут будто кто рванул по глухому небу застежку-молнию. Его ослепило и оглушило: само небо рушилось на него. И в этом слепящем всполохе молнии он увидел…
Увидел ли, вспомнил ли?..
Июльский жаркий полдень… Волны на хлебном поле… Перепелка кричит, а в небе — самолетик… Ближе и ближе. Странный незнакомый самолет… Прямо на него несется! Дурной, что ли?
«Та-та-та!» — будто хлыстом ударило по воздуху.
Андрей Карпович ошеломленно смотрит вслед взвывшему над ним самолету. «Неужели он по мне стрелял?»
Самолет делает разворот и — Андрей Карпович видит на фюзеляже — крест. Фашист!..
Самолет снова несется на него. Андрей Карпович падает на землю, вжимается в нее. Самолет с душераздирающим воем валится на то место, где лежит Андрей Карпович.
Не выдержав этого дьявольского звука, Андрей Карпович ужом, по-пластунски ползет. Но нет ему спасения и защиты. «Та-та-та!» — бьет по нему самолет. Андрей Карпович лежит на земле, оглушен, раздавлен, унижен. Страх проходит, и ненависть медленно овладевает им, он даже чувствует, как чугунеет в его жилах кровь… Поднимается с земли, стряхивает грязь с брюк, смотрит в небо. Самолет улетел, и — нет выхода ненависти, которая переполняет душу. Андрей Карпович топчет ногами соломенную шляпу, ругается последними словами, и слезы текут по его лицу.
Но что это? Самолет возвращается… И в злой радости Андрей Карпович хватает с земли грязную шляпу, машет этому треклятому Змею-Горынычу: мол, тут я! Вот стою! Лети сюда!..
Андрей Карпович расставил пошире ноги, выпрямился, поднял голову. Ветер ласково шевелил седую бороду и волосы на голове.
«Та-та-та!» — пронесся смерч над ним.
«Стрелять сначала научись, нечисть фашистская!» — зло выругался и сплюнул Андрей Карпович.
Фашист не унимался: снова выцеливал стоящего в поле старика.
«Та-та-та!» — обожгло плетью плечо. Андрей Карпович покачнулся, но удержался на ногах, почувствовал только, будто ударили его сверху дубиной, и он наполовину ушел в землю.
«Та-та-та!» — еще раз.
«Та-та-та…»
«Врешь, не собьешь! Мы на своей земле…» — упрямо стоял на ногах Андрей Карпович.
…Сколько прошло времени — он не помнил. Очнулся — тишина вокруг весь мир объяла. Ничего окрест — только безоглядная тишина земли и неба. Тишина, тишина… Голубая в небе, сине-зеленая в поле… И он — стоит твердо на ногах среди этой солнечной тишины…
Драндулет выполз на крыльцо, с трудом поднял голову, увидел лежащего на земле Андрюшу, срыгнул прямо под себя и сказал хрипло: «Пить умеичи надость…» — и уронил голову на мокрое крыльцо.
Здравствуйте дорогие мои Паня и Варя!
Получила от вас нежданно-негаданно весточку Радость-то какая! Отыскались, наконец.
Перечитываю ваше письмецо — и точно в рощу нашу березовую вхожу. Помните, нет? За околицей…
Вхожу, соку березового напьюсь, волшебного — да обернусь девкой, стану наново молодешенькой…
И зачем только мы далеко друг от друга?!
Сейчас нет у меня близких, друзей тех времен, с которыми пережили самые трудные годы.
Многое бы припомнилось нам рядком-то на теплой скамеечке у дома родного под рябиной кудрявой вечерком… Повспоминали бы о песнях наших, которые петы нами были, и о складчинах в праздники, о вечерках у рощи-то…
Эх, Паня! Как мы с тобой пели! Ты какая уха́лка была! И на работу, и на песню смелая, бедовая. Мы с тобой, как буковки заглавные, завсе всех впереди, по-стахановски: с нас и работа, и песня начиналась. Помнишь, у Никитиных собирались все мы, хохотушки продувные: Тая Егорина, Сима Надеина, Варя, ты да я — одна семья, бесились до упаду, кровь в нас играла молодая. Черт нам пятки смажет — так и французских железных каблуков не хватит.