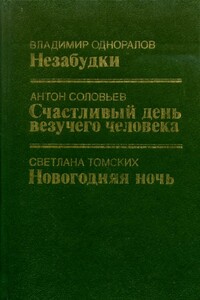Заекало у меня в брюхе, но голос прилипчивый, ну, точно баба моя телушку домой зовет. Стою размышляю… А она все: «Иди-и, иди-и, лапонька…»
Потянуло меня аж магнитом, пошел и — в копну уперся. Смотрю, а она на сене… в чем мать родила, волос только по бедрам да по коленкам ее льется золотом, груди, как две рыбицы живые, трепещут… Помутилось у меня в голове, дых в грудях сперло… Ну, взял ее в оборот… Правду сказать, робята, слаще вина не пил.
К утру только домой приволокся. Баба моя сразу вскинулась медведицей: «Где это ты, старый хрыч, ночь ночевал? С кем в жмурки играл? Посмотри на себя: лица на тебе нет — чернь под глазами, щеки как у щуки. Выпили тебя, что ли?»
Точно сказала — сил никаких во мне нет. Ветром качает…
Примолк Филипп, ус по привычке теребит, в глазах серых смех прячет. А мы молчим, знаем: вот-вот кто-нибудь из салажат на крючок и кинется… Наживка-та… ой! — как хитра. Кто посластится?
Но тут политрук пришел. Чистенький, молоденький, что морковь молочная. Агитирует нас храбро воевать. А нам это ни к чему: не первый год девка замужем, да и злость еще не всю вычерпали из сердца, загустела она, черная, на самом-то донышке, прикипела не на один год… Но не обижаем политрука, слушаем: при своем деле человек…
Лицо у него пушком золотится, румянцем играет. Ну, право, девка-девкой! Смотрю на него — себя вспоминаю: самому от роду двадцать годков, а кажется — давным-давно молодым зеленым был. Обломала война, обветрила железным ветром, лицо и душу свою не враз узнаешь, пока не приглядишься.
Все ж интересный человек — политрук! Уходя, как бы между прочим, обронил словцо:
— Высота эта главная высота России! Здесь еще Наполеона били…
Да-а, зацепил душу. Глянешь — чистое поле, ни бугорка единого даже. Может, в мирное время и была горка да война перепахала.
Ушел политрук, тихо стало. Кто пуговку пришивает, кто оружие чистит, кто бреется: каждый своей думкой занят, своим делом — умирать никто не собирается.
Час проходит, другой. Сержант наш, Фроленко Лукьян, каланча рязанская, на часы поглядывает, глазами на нас строго косит, губами про себя что-то дергает. Нервничаем и мы: хуже нет — ждать и догонять.
И все ж неожиданно началось. Ракеты взлетели, Лукьян тихо, одними губами:
— С богом! За Родину! За Сталина! — и вымахнул из окопа.
Хочу подняться — не могу. Живот к спине присох, ноги одеревенели. Что за напасть такая?! Не впервой ведь! Вдруг ударило по ушам, по сердцу:
— Ура! — Очнулся — бегу уже…
Трудная была высотка. Пять раз в атаку ходили. Взяли ее ребята, а меня в третьем разе положило. Плюхнулся снаряд рядом… так мягко, будто в подушку кулаком вдарило. Бросило меня. Вскочил. Вперед! А ни черта не вижу. Дернул рукой по глазам — темно. Ниче, думаю, подниматься надо. Мы, Ваньки-встаньки… Вперед!
Когда упал снова — чувствую в ладошке мокро: от грязи ли, от крови ли, потом дошло — глаза вытекли. Заплакать бы тут, да нечем.
Провалялся в госпитале три месяца. Повязку с глаз сняли, а что толку: света все равно нет.
Приспело время выписываться, домой ехать. Перед отъездом пришел в палату ко мне сам комбат. Ребята гостинцев прислали, приветы… кто жив остался.
Много в тот день наших полегло: Филипп Ерохин, Фроленко Лукьян, политрук на высоте той главной. Стоит, видно, этого она.
Комбат, дородный мужчина, властный, крестьянской жилы человек, хозяйственный, был нам и отцом, и матерью, всегда-то мы были сыты, при форме и дисциплине, уважали его.
Долгий у нас разговор получился, как мне дальше жить, чем заниматься. Но советов его я не принял, а сейчас вспомню — руку бы ему поцеловал. На прощание обнял меня комбат: «Держись, солдат Василий Суханов, руки есть, ноги есть — будет и работа, а все остальное в жизни приложится…» И — пошел. Я его все же окликнул: «Товарищ капитан! У меня к тебе просьба…» Остановился он, спрашивает тихо: «Что, Вася?» Я ему — бумажку: «Вот адрес матери, вышлите ей похоронку… Так, мол, и так — погиб ваш сын…» — «Да ты что?! — взорвался комбат. — Сволочью меня считаешь? Иудой? Да я, да ты…»
Слов ему не хватает, точно кто его за горло взял, душит. И мне стыдно стало, чувствую, аж со спины краснею, но твердо на своем стою: все-то я продумал за три черных месяца.
Не взял комбат моего листка. Поговорили еще толику с ним, но сколько воду в ступе не толчи — сухой она не будет.
Расстались и — остался я один-одинешенек на всем черном свете. Жутко. Жизнь свою бы кончил, да под рукой оружия нет. Повеситься душа солдатская не позволяет, брезгует. Война научила гордым быть. Слова простые, а светлой силы в них много.
Через неделю выписали меня из госпиталя, сестричку прикрепили, чтоб, значит, до дому меня сопроводила, но я отказался.
В начале в поезде трудно было: людей стеснялся, мир ямой глубокой казался. В уборную пойду, как баран, лбом все углы считаю. Но постепенно в пути пообвык. Народ оказался в большинстве военный. «Казбеком» угощали, спиртиком баловали…
А ночью тяжко: колеса стучат, точно молотки по вискам: до-мой, до-мой… Чувствую — сердце бычьей злой кровью набухает, душит. Встану, воды напьюсь, покурю — успокоюсь вроде, сном забудусь.