Страх влияния. Карта перечитывания - [9]
…Мужеженщины Драконоподобные,
Религия скрыта Войной, Драконом красным и скрытой Шлюхой,—
Все это ввдно в Тени Мильтона, а он и есть Херувим
Осеняющий…
Как и Блейк, мы знаем, что Поэтическое Влияние — это неразделимо переплетенные в лабиринте истории приобретение и утрата. Какова природа этого приобретения? Блейк отличал Состояния от Индивидов. Индивиды проходят через Состояния Бытия и остаются Индивидами, но Состояния — всегда в движении, всегда изменяются. И только Состояния, но отнюдь не Индивиды, виновны. Поэтическое Влияние — это прохождение Индивидов, или Частностей, сквозь Состояния. Как всякий ревизионизм, Поэтическое Влияние — дар духа, приходящий к нам только вследствие того, что может быть названо, вполне беспристрастно, извращением духа, или того, что Блейк точнее назвал извращением Состояний.
На самом деле случается, что один поэт влияет на другого или, точнее, стихотворения одного поэта влияют на стихотворения другого величием духа, даже взаимным великодушием. Но наш легковесный идеализм здесь неуместен. Там, где речь идет о великодушии, испытывающие влияние поэты меньше и слабее: чем больше великодушия и чем разнообразнее его проявления, тем беднее рассматриваемые поэты. И здесь тоже влияющий влияет по недоразумению, хотя кажется, что это неизбежное или почти бессознательное влияние. Я перехожу к главному принципу моего рассуждения, который не правильнее всех прочих в силу своего неистовства, а просто сравнительно верен.
Поэтическое Влияние — когда оно связывает двух сильных, подлинных поэтов — всегда протекает как перечитывание первого поэта, как творческое исправление, а на самом, деле это — всегда неверное истолкование. История плодотворного поэтического влияния, которое следует считать ведущей традицией западной поэзии со времени Возрождения, — это история страха и самосохраняющей карикатуры, искажения, извращения, преднамеренного ревизионизма, без которых современная поэзия как таковая существовать бы не смогла.
Мой Простец-Вопрошатель, уютно свернувшийся в лабиринте моего собственного бытия, протестует: «Как использовать такой принцип, каким бы истинным (или ложным) ни было рассуждение, из него исходящее?» Следует ли напоминать, что поэты не обычные читатели и в особенности не критики в истинном смысле критиков, обычных читателей, достигших высочайшей силы? А что есть Поэтическое Влияние в конце-то концов? Может ли его исследование на самом деле быть чем-то, кроме нудной охоты на ведьм, подсчета аллюзий, занятия, которое вскоре в любом случает приобретет апокалиптические черты, когда перейдет от ученых к компьютерам? Не существует ли завещанного нам Элиотом шибболета, согласно которому хороший поэт крадет, тогда как бедный поэт выдает испытываемое им влияние, заимствуя чужой голос? И разве нет у нас великих Идеалистов литературной критики, отвергающих поэтическое влияние, от Эмерсона с его максимами: «Следуй только себе, никогда не подражай» и «Немыслимо, чтобы душа… снизошла до того, чтобы стала повторять саму себя», до Нортропа Фрая, преобразившегося в Арнольда наших дней и упорно утверждающего, что Миф Участия избавляет поэтов от болезненного страха задолжать?
Перед лицом такого идеализма сразу же вспоминается великое замечание Лихтенберга: «Да, мне тоже нравится восхищаться великими, но только теми из них, работ которых я не понимаю». Или, тоже из Лихтенберга, одного из мудрецов Поэтического Влияния: «Делать прямо противоположное чему-либо — тоже подражание, и определение понятия «подражание», справедливости ради, должно бы включать оба эти понятия». Лихтенберг подразумевает, что Поэтическое Влияние не что иное, как оксюморон, и он прав. Но тогда и Романтическая Любовь — тоже оксюморон, ведь Романтическая Любовь — ближайший аналог Поэтического Влияния, еще одна блестящая извращенность духа, хотя и направленная в противоположную сторону. Поэт, противостоящий своему Великому Оригиналу, должен найти в нем ошибку, которой в нем нет, а в сердцевине этого поиска — высочайшая добродетель воображения. Любовник обманным путем вовлечен в самое сердце утраты, но в силу взаимной иллюзии он встречается со стихотворением, которого не существует. «Когда двое влюбляются, — говорит Кьеркегор, — и начинают думать, что созданы друг для друга, самое время им расстаться, ибо, продолжая, они все потеряют и ничего не приобретут». Когда эфеб, или юный мужественный поэт, встречается со своим Великим Оригиналом, для него настало время продолжать, ибо он все приобрел, а его предшественник ничего не потерял; если правда, что же все написавшие поэты пребывают по ту сторону утраты.
Но существует состояние, которое называется «Сатана», и в его резкости поэты должны отвечать за себя. Ибо Сатана — это чистое или абсолютное сознание «я», вынужденное признать свою внутреннюю связь со смутностью. Состояние Сатаны — это, таким образом, устойчивое сознание дуализма, того, что ты попался в ловушку бренности, не просто в пространство (в тело), но равно и в циферблат. Быть чистым духом и все же познать в себе предел смутности; утверждать, что возвращаешься в «до Творения-Падения», и все же вынужденно поддаваться числу, весу и мере — такова ситуация сильного поэта, возможного воображения, противостоящего вселенной поэзии, словам, которые были и будут, ужасному сиянию культурного наследия. В наше время ситуация становится более безнадежной, чем даже в восемнадцатом веке, гнавшемся за Мильтоном, чем даже в девятнадцатом веке, гнавшемся за Вордсвортом, и наши сегодняшние и будущие поэты могут утешаться единственной в своем роде мыслью, что после Мильтона и Вордсворта никто, ни Йейтс, ни Стивенс, не был Титаном.

«Западный канон» — самая известная и, наверное, самая полемическая книга Гарольда Блума (р. 1930), Стерлингского профессора Йельского университета, знаменитого американского критика и литературоведа. Блум страстно защищает автономность эстетической ценности и необходимость канона перед лицом «Школы ресентимента» — тех культурных тенденций, которые со времен первой публикации книги (1994) стали практически непререкаемыми. Развивая сформулированные в других своих книгах концепции «страха влияния» и «творческого искажения», Блум рассказывает о двадцати шести главных авторах Западного мира (от Данте до Толстого, от Гёте до Беккета, от Дикинсон до Неруды), а в самый центр канона помещает Шекспира, который, как полагает исследователь, во многом нас всех создал.
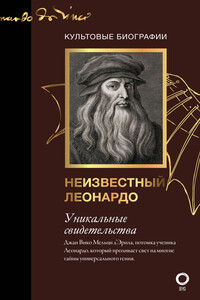
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
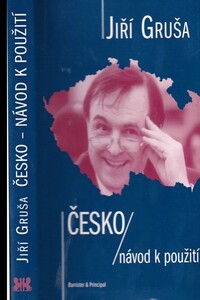
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.

Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.