Страх влияния. Карта перечитывания - [10]
Исследовав около дюжины источников поэтического влияния вплоть до наших дней, легко обнаруживаешь того, кто и есть великий Замедлитель, Сфинкс, душащая в колыбели даже сильных воображением: это — Мильтон. Китс высказал девиз английской поэзии после Мильтона: «Жизнь для него, смерть для меня». Эта смертельная жизненность Мильтона — состояние Сатаны в нем, и его нам показывает не столько характер Сатаны в «Потерянном рае», сколько редакторское отношение Мильтона к Сатане в себе самом, сколько отношение Мильтона ко всем сильнейшим поэтам восемнадцатого века и к большинству поэтов девятнадцатого.
Мильтон — центральная проблема любой теории и истории влияния, написанной на английском языке; может быть, даже более важная, чем Вордсворт, который ближе нам и Китсу и который сталкивает нас со всем тем в современной поэзии, т. е. в нас самих, что наиболее проблематично. Эту линию воображения, в которой Мильтон — предок, Вордсворт — великий ревизионист, Китс и Уоллес Стивенс, среди прочих, — зависимые наследники, объединяет именно честное признание действительного дуализма, противоположное свирепому желанию преодолеть все дуализмы, властвующему над провидческой, пророческой линией, начинающейся со Спенсера с его относительно спокойным темпераментом и проходящей через поэзию в разной степени свирепых Блейка, Шелли, Браунинга, Уитмена и Йейтса.
Вот настоящий голос линии размышления, поэзии утраты, а также голос сильного поэта, принимающего свою задачу и высмеивающего все остальное:
…Прощай, блаженный край!
Привет тебе, зловещий мир! Привет,
Геена запредельная! Прими
Хозяина, чей дух не устрашат
Ни время, ни пространство. Он в себе
Обрел свое пространство и создать
В себе из Рая — Ад и Рай из Ада
Он может. Где б я ни был, все равно
Собой останусь…
Для К. С. Льюиса, или Ангельской школы, эти строки являют собой пример нравственного идиотизма и обречены на осмеяние, если мы не забудем начать день ежеутренним «Ненавижу!» по адресу Сатаны. Если же мы не столь утончены морально, на нас, похоже, сильно подействуют эти строки. Не то чтобы Сатана не ошибался; он, конечно, ошибается. Есть ужасный пафос в его «собой останусь», поскольку он не останется собой и никогда уже собой вновь не станет. Но он знает это. Он приемлет героический дуализм с его сознательным отказом от Радости, дуализм, в котором почти все варианты влияния в литературе, написанной на английском языке после Мильтона, находят самое себя.
Для Мильтона неизбежным основанием всякого опыта падения становится утрата, а обрести рай может только Один Великий Человек, а не какой-то поэт. И все же Великим Оригиналом Мильтона, как сам он признался Драйдену, был Спенсер, даровавший своему Колину Рай Поэта в VI книге «Королевы фей». Мильтон — как подчеркивают и Джонсон, и Хэзлитт — был, в отличие от своих потомков, не способен страдать от страха влияния. Джонсон настаивает на том, что из всех, заимствовавших у Гомера, у Мильтона — наименьший долг, прибавляя: «Он, естественно, был самостоятельным мыслителем, презирающим помощь как помеху: он не отказывался от обращения к мыслям и образам предшественников, но и не стремился к нему». Хэзлитт в лекции, которую слушал Китс и которая впоследствии повлияла на предложенную Китсом концепцию Негативной Способности, отмечал позитивную способность Мильтона поглощать своих предшественников: «Читая его работы, мы чувствуем на себе влияние могущественного интеллекта, который становится тем более отличным от других, чем ближе к ним подходит». Что же, вынуждены мы спросить, в таком случае имел в виду Мильтон, называя Спенсера своим Великим Оригиналом? По крайней мере, вот что: Мильтон во второй раз родился в романтическом мире романа Спенсера, и, когда он отверг то, что посчитал объединяющей иллюзией романа Спенсера, приняв настоящий дуализм как боль бытия, он отказался от рассмотрения Спенсера как Другого, от мечты об Инаковости, свойственной всем поэтам. Отказываясь от целостности, озарившей его юность, Мильтон, если можно так выразиться, стал отцом поэзии, всепоглощающей страстью которой становится тема власти духа над вселенной смерти или, как это выразил Вордсворт, вопрос о том, насколько душа — хозяин и владыка, а внешнее чувство — слуга ее воли.
Ни один современный поэт не целен, каковы бы ни были высказываемые им убеждения. Современные поэты вынуждены оставаться бедными дуалистами, потому что их бедность, их нищета — это то, с чего начинается их искусство, недаром Стивенс говорил о «глубокой поэтичности бедных и мертвых». Поэзия может быть, а может и не быть спасена человеком, но она приходит только к тем, кто испытывает крайнюю потребность в ее образах, хотя в этом случае она может прийти и под личиной ужаса. И эта потребность обнаруживается сначала в том, как юный поэт, или эфеб, переживает опыт другого поэта, Другого, пагубное величие которого возрастает под взглядом эфеба, взирающего на него, как на свет, воссиявший в окружающей тьме, так, как Бард Познания Блейка смотрит на Тигра, Иов — на Левиафана и Бегемота, Ахав — на Белого Кита, Иезекииль — на Осеняющего Херувима, ибо все это — видения Творения, ставшего злым и обманчивым, сияния, угрожающего Прометееву Поиску, к которому готовится каждый эфеб.

«Западный канон» — самая известная и, наверное, самая полемическая книга Гарольда Блума (р. 1930), Стерлингского профессора Йельского университета, знаменитого американского критика и литературоведа. Блум страстно защищает автономность эстетической ценности и необходимость канона перед лицом «Школы ресентимента» — тех культурных тенденций, которые со времен первой публикации книги (1994) стали практически непререкаемыми. Развивая сформулированные в других своих книгах концепции «страха влияния» и «творческого искажения», Блум рассказывает о двадцати шести главных авторах Западного мира (от Данте до Толстого, от Гёте до Беккета, от Дикинсон до Неруды), а в самый центр канона помещает Шекспира, который, как полагает исследователь, во многом нас всех создал.
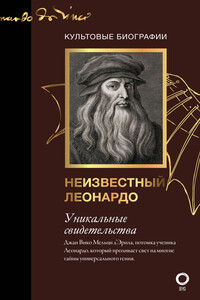
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
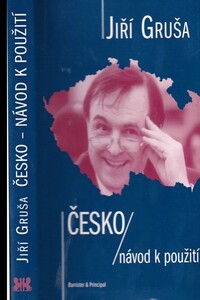
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.

Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.