Страх влияния. Карта перечитывания - [8]
Слово «влияние» приобрело смысл «иметь власть над кем-то» уже в схоластической латыни Аквината, но на протяжении столетий не было утрачено и его исконное значение «вливание», его первоначальное значение эманации, или силы, нисходящей на человечество со звезд. Сначала «быть под влиянием» значило получать эфирный флюид, льющийся со звезд, флюид, воздействующий на характер и судьбу и преобразующий все в подлунном мире. Сила божественная и нравственная, позднее — просто таинственная сила, проявляет себя вопреки всему, что казалось результатом сознательного выбора человека. Интересующий нас смысл — поэтическое влияние — слово приобретает очень поздно. Что касается английской критики, этот термин не встретишь у Драйдена, и в таком смысле его никогда не использовал Поп. Джонсон в 1755 году определяет влияние как астральное или моральное, говоря о последнем, что оно суть «преобладающая сила; направляющая и преобразующая сила», но примеры, которые он приводит, заимствованы из религии и частной жизни, но не из литературы. У Кольриджа, два поколения спустя, это слово появляется в литературном контексте и имеет, по сути дела, современное значение.
Но страх появился намного раньше такого употребления этого слова. Сыновняя верность в отношениях поэтов за время, прошедшее между Беном Джонсоном и Сэмуэлем Джонсоном, уступила место лабиринтным привязанностям в рамках того, что Фрейд остроумно назвал «семейным романом», а на смену моральной силе пришла меланхолия. Бен Джонсон еще рассматривает влияние как здоровье. Под подражанием он, по его словам, подразумевает «способность переработать субстанцию или сокровища другого поэта для своего собственного использования. Выбрать одного человека, превосходящего всех прочих, и следовать ему так, чтобы перерасти его, или любить его так, чтобы копию по ошибке можно было принять за оригинал». Таким образом, Бен Джонсон боится чего угодно, только не подражания, ибо, как ни забавно, но для него искусство — тяжелая работа. Но падает тень, и вместе со страстью к Гению и Возвышенному, отличающей пост-Просвещение, появляется также и страх, ведь искусство — вовсе не тяжелая работа. Эдвард Юнг, оценивавший Гений в духе Лонгина, лелеет в душе губительные добродетели поэтических отцов и предвосхищает настроения писем Китса и «Доверия к себе» Эмерсона, когда жалуется на великих предшественников: «Они завладели нашим вниманием и таким образом сделали для нас невозможным самопознание; они предрешили наше суждение в пользу своих способностей и таким образом занизили нашу самооценку; они устрашают нас сиянием славы». А доктор Сэмуэль Джонсон, более стойкий человек с классическими предпочтениями, тем не менее создает сложную критическую матрицу, в которой понятия праздности, одиночества, оригинальности, подражания и изобретения' смешаны самым странным образом. Джонсон рявкает: «Случай Тантала в сфере поэтического наказания вызывает жалость, потому что плоды, висящие над ним, ускользали из его рук; но на какое сочувствие могут рассчитывать те, кто, страдая от мук Тантала, никогда не подымут руки, чтобы облегчить свое положение?» Мы вздрагиваем от рыка Джонсона, вздрагиваем еще сильнее потому, что он подразумевает и себя, ведь он как поэт тоже был Танталом, жертвой Осеняющего Херувима. В этом отношении только Шекспир и Мильтон избегли розги Джонсона; даже Вергилий был обвинен в том, что он всего лишь обыкновенный подражатель Гомеру. Ибо в лице Джонсона, величайшего английского критика, мы также имеем величайшего диагноста поэтического влияния. И все же диагноз принадлежит своему времени. Восхищаясь поэзией Уоллера, Юм думал, что Уоллер известен только потому, что Гораций так далек. Мы ушли еще дальше и видим, что Гораций не столь уж далек. Уоллер мертв. Гораций жив. «Ноша правления, — сетует Джонсон, — возложенная на плечи князей, увеличивается добродетелями их непосредственных предшественников» — и добавляет: «Тот, кто достигнет успеха, прославившись как писатель, столкнется с теми же трудностями». Нам слишком хорошо знаком заключенный в этих словах прогорклый юморок, и каждому читателю «Самореклам» дано насладиться неистовыми танцами Нормана Мейлера, борющегося со своим страхом, что он никуда не ушел от Хемингуэя. Или, что не столь забавно, можно перечитать «Дальнее поле» Ретке, или «Его игрушку, мечту, отдых» Берримена и обнаружить, что поле, увы, не слишком удалено от полей Уитмена, Элиота, Стивенса, Йейтса, а игрушка, мечта, самый настоящий отдых — это утехи тех же самых поэтов. То, что мы называем влиянием, для Джонсона и Юма было страхом, но пафос сохраняется, а вот достоинства остается все меньше.
Поэтическое Влияние, как его по традиции называют, — это часть древнейшего явления интеллектуального ревизионизма. А ревизионизм, как в политической теории, так и в психологии, теологии, праве, поэтике, в наше время изменил своей природе. Ревизионизму предшествовала ересь, но ересь стремится изменить усвоенное учение, изменяя систему равновесий, но не прибегая к тому, что можно назвать творческим исправлением, которое и отличает современный ревизионизм. Ересь начинается со смещения акцентов, тогда как ревизионизм следует усвоенному учению до определенной точки и затем отклоняется от него, настойчиво уверяя, что именно в этой точке, но никак не ранее, было избрано неверное направление. Фрейд, размышляя о ревизионистах своего учения, бормочет: «Только задумайтесь о сильных эмоциональных факторах, которые для многих делают согласие с другими или подчинение им невозможным», но Фрейд слишком тактичен, чтобы проанализировать сами эти «сильные эмоциональные факторы». Блейк, свободный, к счастью, от такого рода такта, остается глубочайшим и оригинальнейшим теоретиком ревизионизма со времен Просвещения и до наших дней и верным помощником в развитии новой теории Поэтического Влияния. Порабощение системой предшественника, говорит Блейк, удерживает от творчества, навязывая сопоставления и сравнения, в первую очередь, своих собственных творений и творений предшественника. Поэтическое Влияние, таким образом — болезнь самосознания; но и Блейк не свободен от этого страха. Мучавшая его литания злодеяний мощно явилась ему в видении величайшего из его предшественников:

«Западный канон» — самая известная и, наверное, самая полемическая книга Гарольда Блума (р. 1930), Стерлингского профессора Йельского университета, знаменитого американского критика и литературоведа. Блум страстно защищает автономность эстетической ценности и необходимость канона перед лицом «Школы ресентимента» — тех культурных тенденций, которые со времен первой публикации книги (1994) стали практически непререкаемыми. Развивая сформулированные в других своих книгах концепции «страха влияния» и «творческого искажения», Блум рассказывает о двадцати шести главных авторах Западного мира (от Данте до Толстого, от Гёте до Беккета, от Дикинсон до Неруды), а в самый центр канона помещает Шекспира, который, как полагает исследователь, во многом нас всех создал.
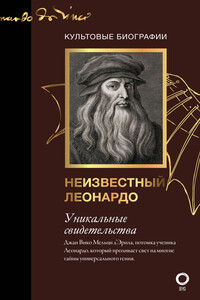
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
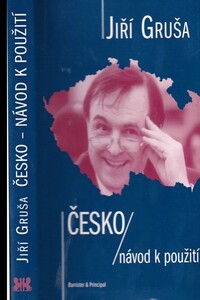
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.

Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.