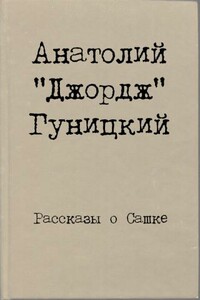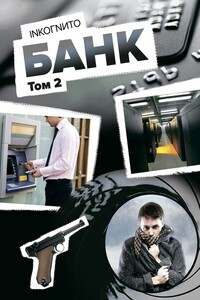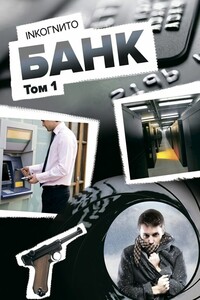День прошёл, другой, неделя. Совсем бабка деда запилила, и ничего не оставалось делать, как топор точить. Дело это привычное для сельской местности, но вот только деду в натяжку было топор готовить — уж больно Пасечника жалко. Дед топор точит, а гусь рядом стоит.
Когда лезвие инструмента заблестело литым серебром, старик направился в сарай, и по одному стал выносить гусей во двор к пеньку, а Пасечника во времянке закрыл. Бабка тем временем кипяток по вёдрам разлила, и тушки безголовые в них окунула. А тушки лежат по вёдрам, где лапой дёрнут, где крылом в судорогах смертельных. Зашёл дед в хату, и топор на пороге кладёт, а бабка ему и говорит, мол, что топор кладёшь, ежели всех не порубил? На что дед отмолчался, и обратно на улицу вышел. Бабка за ним по пятам: «Что молчишь, старый? Где пасечник твой?» Дед уж было отбрехаться хотел, как вдруг из-за двери скрипучей во времянку голова Пасечника выглянула. Не смог фронтовик бабе перечить, и нехотя к времянке пошёл. Взял он птицу за шею, и на плаху поволок. Положил его шею на пенек, а тот молчит и пристально деду прямо в глаза смотрит. Пробежала дрожь по руке жилистой, которая топор над головой вздыбила, и не успел дед махнуть с плеча, как Пасечник и дух испустил сам.
И кто бы знал что с птицей бедной случилось, если бы не бабка. Когда потрошила гуся, то увидела сердечко его крохотное в двух местах разорвано.
Каждый год из города бабка птенцов возила, да только год от года на пасеке дед один бродил, да всё назад оглядывался.