Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? - [3]
Эти наблюдения косвенно затрагивают чрезвычайно важный, как представляется, вопрос: кому (или чему) документ адресуется? Можно предположить, что одним из устойчивых маркеров документности является специфическим образом устроенный (и специфическим образом присваиваемый любому артефакту вместе со статусом документа) режим адресации — здесь почти непременно, хотя чаще имплицитно, присутствует (как правило, помимо другой инстанции адресата — вполне явной и конкретной) некая универсальная адресация «всем и каждому», которая чрезвычайно легко достраивается до таких метаконструкций, как «история», «общество», «культура».
Представление (разумеется, иллюзорное), согласно которому «настоящий документ» способен функционировать в абсолютно любых контекстах, а заключенное в нем сообщение будет непременно прочитано и расшифровано, вне зависимости от того, кому попадется в руки, и обеспечивает документу выполнение его миссии «переводчика», связки между различными контекстами. Вместе с тем подобным представлением поддерживается образ документа, дистанцированного от своего адресанта (слово «автор» тут, соответственно, не слишком подходит), ему уже не принадлежащего, ставшего «общим» (в высоком модусе — «общим достоянием»), — тот образ «ожившего», «зажившего своей жизнью» суррогата человека, который вдохновил рефлексию Дэвида Леви.
Вероятно, ролью, которую документ играет в установлении социальных связей, делегированием ему коммуникативных полномочий, функций интерпретации и перевода (при том что сам документ часто воспринимается как принципиально не нуждающийся ни в переводе, ни в интерпретации) — иными словами, его «пограничным» местом в социальной реальности — можно в определенной степени объяснить тот факт, что документ нередко характеризуется через соединение противоречивых качеств. Документное нагружено субъектными смыслами, знаками поручительства, индивидуальной или коллективной ответственности, но в то же время тесно связано с универсализацией, с нормативным, каноническим, формульным. Документ, конечно, инструмент социального (скорее всего — властного) контроля, но он может использоваться и для опровержения господствующих образов социальной реальности (разоблачительная «правда документа»)[10]. Наконец, эмоциональные оценки документа колеблются в широком диапазоне от сниженного образа «бездушной бумажки», формализующей и умерщвляющей все живое, до возвышенного образа правдивого и сильного по своему воздействию свидетельства, позволяющего услышать, как говорит «сама жизнь», — собственно, и определение «говорящая вещь», соединяющее представления о «живой» и «неживой» природе документа, является оксюмороном.
Таковы предварительные наметки и исходные гипотезы, которые были предложены к обсуждению авторам этого сборника — антропологам, социологам, социальным психологам, историкам, политологам, филологам, специалистам в области cultural и visual studies. Отнюдь не все из них «приняли в эксплуатацию» термин «документность». Книгу составляют статьи очень несхожих — по методологическим предпочтениям, по выбору подходов и даже по научному стилю — исследователей. В ней рассматриваются самые разные институциональные и коммуникативные ситуации, в которых статус документа приобретает особую важность либо, напротив, подвергается сомнению: и ситуация принятия политических решений, и повседневное взаимодействие с бюрократической инфраструктурой, и попытки выстроить определенную версию прошлого, персонального или коллективного, и погружение в современные медийные среды (такие, как фотография и кино), и восприятие литературного текста. Соответственно, нет единообразия и в тех теоретических ресурсах, которые привлекаются авторами для описания документа: для многих (но далеко не для всех) оказались релевантными размышления Мишеля Фуко о высказывании и архиве, документе и монументе — в особенности в контексте анализа современных медиа (см. статьи Олега Аронсона и Нины Сосны); говоря об историческом документе, Борис Степанов ссылается на Поля Рикёра; исследуя биографический нарратив, Елена Рождественская опирается на теорию «документа жизни», предложенную Кеннетом Пламмером. В одних случаях «документ» определяется по контрасту со смежными понятиями — будь то «бумага» и «дело» (в статье Галины Орловой) или «свидетельство» (в статье Олега Аронсона); в других случаях логика исследования делает подобные оппозиции непринципиальными и те же самые понятия используются не как антонимы, а как синонимы документа, позволяющие уточнить набор приписываемых ему значений[11].
Создание такого неоднородного, не подлежащего унификации дискуссионного поля входило в замысел редактора-составителя. Мне представляется наиболее существенным, что — при всем многообразии исследовательских позиций — наших авторов объединяет готовность увидеть документ не только как говорящую, но и как проблематичную, неоднозначную, а иногда и конфликтную вещь. Безусловно общей здесь является постановка вопроса (не важно, эксплицитная или имплицитная) о пределах документа — о границах, за которыми находится недокументируемое, за которыми обнаруживается псевдодокумент, документ-симулякр, за которыми документ перестает быть документом, и о том, как прочерчиваются эти границы в культуре и существуют ли они в принципе или исчезают в тот же момент, когда проводятся, вытесняя все, что не признано подлежащим документированию, в «невидимые», неразличимые зоны (интересно сравнить, насколько по-разному работают с подобной проблематикой Альберт Байбурин и Олег Аронсон, Елена Васильева и Илья Кукулин, Елена Михайлик и Елена Рождественская). Возможность ответа на такого рода вопросы возникает постольку, поскольку в размышление вводятся фигуры субъектности: с чьей точки зрения устанавливается граница между документом и не-документом (или лже-документом)? кто утверждает документные характеристики? кто удостоверяет право документа удостоверять? кто готов принять те или иные режимы удостоверения? Этот ракурс, столь значимый для нас на стадии замысла, был поддержан авторами книги и остался ключевым. Равно как и связанные с ним развороты — проблема адресации (в эпиграфе к одной из статей она формулируется с шутовской отчетливостью: «Папа, с кем ты сейчас разговаривал?») и проблема (не)доверия (в особенности см. статьи Альберта Байбурина, Елены Васильевой, Олега Аронсона; первостепенная роль отводится этому развороту и в моей статье о документе и литературе).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего».

В книге Ирины Каспэ на очень разном материале исследуются «рубежные», «предельные» смыслы и ценности культуры последних десятилетий социализма (1950–1980-е гг.). Речь идет о том, как поднимались экзистенциальные вопросы, как разрешались кризисы мотивации, целеполагания, страха смерти в посттоталитарном, изоляционистском и декларативно секулярном обществе. Предметом рассмотрения становятся научно-фантастические тексты, мелодраматические фильмы, журнальная публицистика, мемориальные нарративы и «места памяти» и другие городские публичные практики, так или иначе работающие с экзистенциальной проблематикой.
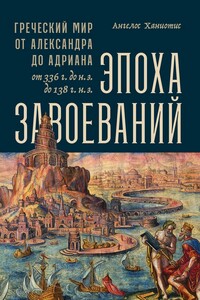
В своей новой книге видный исследователь Античности Ангелос Ханиотис рассматривает эпоху эллинизма в неожиданном ракурсе. Он не ограничивает период эллинизма традиционными хронологическими рамками — от завоеваний Александра Македонского до падения царства Птолемеев (336–30 гг. до н. э.), но говорит о «долгом эллинизме», то есть предлагает читателям взглянуть, как греческий мир, в предыдущую эпоху раскинувшийся от Средиземноморья до Индии, существовал в рамках ранней Римской империи, вплоть до смерти императора Адриана (138 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
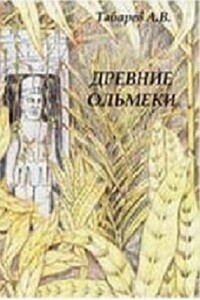
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.
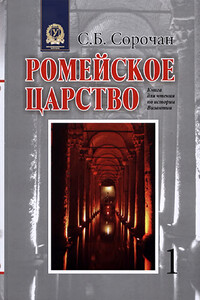
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.