Сотрудничество поэзии - [14]
Подобная сосредоточенность на логико-философских двусмысленностях и тайнах буквализма может показаться иному читателю антипоэтичной. В некотором смысле так оно и есть, с той оговоркой, что все послевоенное искусство, заслуживающее этого имени, было антиискусством. Поэзия не была исключением; отказавшись от «прекрасного», от традиционных лирических подпорок, она обратилась к исследованию условий собственной возможности. Поэтому Палмер, когда речь заходит об определении его метода, предпочитает говорить, по аналогии с аналитической философией, об «аналитической лирике», или контрпоэтике, родословную которой он возводит к опытам Гертруды Стайн, Луиса Зукофски и других «объективистов». В качестве же ближайших предшественников он называет Роберта Крили, Джека Спайсера, Пауля Целана и Эдмона Жабеса.
У истоков этой модернисткой традиции (или контртрадиции) стоит Гёльдерлин. Перед тем как погрузиться в пучину безумия, он записал в одном из фрагментов: «Es fesselt / Kein Zeichen», что можно перевести как «Никакой знак / не связывает». В эссе «Контрпоэтика и современная практика», во второй его части, Палмер упоминает эти строки, интерпретируя их как крушение веры в знак, в связь земли и неба, божественного и человеческого, как распад целостности субъекта (Гёльдерлин подписывался именем Скарданелли и датировал свои стихи XX веком). Можно вспомнить и начало другого его фрагмента, «Мнемозина»:
Майкл Палмер принимает тяжесть этих пророческих строк со всей серьезностью (не исключающей, впрочем, юмора и абсурдных «языковых игр») и рассматривает свой язык как чужой, как ту «чужбину», которая обрекает нас на блуждание и поиск — возможно, напрасный — значенья.
Майкл Палмер
Эссе, стихи
Не могу удержаться от одного воспоминания… — когда мы когда-то давно бродили с Айги по улицам Парижа в мокрый зимний день, переходя на третий, общий нам язык в беседах о Пастернаке и Переделкине, о французах и их собаках. Почти наверняка тогда я и прочел впервые вещи, включенные в «Дитя-и-розу», из томика переводов на французский «Le livre de Véronique» («Тетрадь Вероники»)… Вся поэзия — это, конечно, перевод, перенесение из одной области в другую, пересечение границ, сочетание тождественного и другого. Это перелет из одного и того же, самотождественного и самодостаточного, в текучее семантическое и онтологическое поле… переводить, значит также быть переведенным… Протяженность голоса за пределы того, с каким мы приходим в этот мир. Другие места и времена, столь необходимые для понимания нами момента «здесь и сейчас». Ведь «здесь и сейчас» наших национальных речей, как видно, переполняется яростной ксенофобией, ненавистью и страхом, и упрямым невежеством, незнанием другого, чужестранного, иного. Закупоренность сознания преподносится как залог веры и правды. Все, что вне, должно соответствовать тому, что внутри, при необходимости с повсеместным применением силы. Мы не в состоянии удержаться от напоминаний о языке прежних империй, о «бремени белого человека», о «mission civilisatrice»[24]. Язык, осажденный изнутри… Замечательная фотография появилась на страницах «Нью-Йорк таймс» пару дней назад — в жанре естественного сюрреализма, столь характерного для батальных сцен. Группа вертолетов «Apache» в плотном строю летит в одном направлении, а под ними по пустынным пескам в другом направлении беззаботно шествует караван верблюдов, в столь же сомкнутом порядке. Если я правильно понимаю расположение на фото, вертолеты, по-видимому, направляются на север, вероятно, в сторону Багдада, а верблюды — на юг… Только что мне попалась запись, сделанная мной в начале августа прошлого года, когда я был с кратким визитом на очень красивом и безмятежном островке вблизи побережья штата Мэн. Я пометил, что это «для выступления в Чикаго»:
Лишь у наименее интересных художников вопрос о взаимоотношении эстетического и политического становится актуальным, потому как вместо сопряженности мы находим напластование… Что касается таких мастеров, как Данте и Дарвиш, Беккет, Гойя, Сальгадо и других, это выглядит смехотворным… Болтовня умов, не способных понять, что такое «произведение» и его цели, его насущность для человечества, его воздействие. Но, сказав это, мы не положим конец разговору и подмене понятий. Не остановим шум и гам. На самом деле, может быть, только сейчас шум и начинает подниматься. (И в то же время, здесь такая тишина.)
И вот этот шум… «средь вечных набегов варварской мысли». Вечных, ибо, как сказал Умберто Эко, «дурные идеи никуда не исчезают». Для моего поколения атака на язык, уравнивание патриотизма с пропагандой насилия, уклончивые речи, нагнетание страха и паранойи, триумфализм — все это всплывает в памяти об эпохе войны во Вьетнаме и в некотором роде, о духе Холодной войны в пятидесятых. Но мы должны были заниматься своими делами, возвышаясь над теми материальными желаниями, которые выдавались за желания как таковые. В те годы моего взросления, пятидесятые-шестидесятые, существовала цепь взаимосвязанных развивающихся звеньев, точек сопротивления «культуре как таковой». С одной стороны, был невероятно насыщенный и сплоченный мир искусства, базировавшийся в Нью-Йорке, где изобразительные искусства, музыка, современный танец и перформанс переживали момент необычайного творческого брожения. С другой — развивалась традиция международного модернизма и авангарда, «традиция нового», на тот момент все еще далекая от признания многими из наших институций, как казалось, предлагавшая различные формы сопротивления реальности, что могло бы оказаться полезным для построения другой, альтернативной, жизни. Это, в свою очередь, привело к разнообразным теоретическим моделям, которые в иных обстоятельствах не оказались бы столь общедоступными. Так, например, русские футуристы и формалисты вдохновили Романа Якобсона, среди прочих, а Якобсон с другими своими коллегами открыл новые пути стихосложения, альтернативные взгляды на язык, на общество и многое другое. С третьей стороны, экспериментальная контркультурная традиция в американской поэзии, с центрами в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Блэк-Маунтине, с последователями, характерным образом рассредоточенными по всем Соединенным Штатам. Мне видится в ней вызов устоявшемуся субъективизму и эгоцентризму большинства стихотворных канонов того времени. И, наконец, сам факт войны во Вьетнаме, заставивший нас переосмыслить не только наши собственные позиции как художников, состоявшихся и начинающих, в обществе, но и статус художественного объекта как такового, который до того демонстрировался нам как что-то вроде греческой вазы, оторванной от времени. И хотя ваза вполне может быть вечным объектом, изъятым из времени, стихи об этой вазе уже подвластны времени, зависят от обстоятельств времени, как своего, так и от многих других времен… стихотворение меняется под властью событий, которые оно никак не может предвидеть. Оно не знает, что нас ожидает, так же как Данте не мог предвидеть Милтона и романтиков, ожидавших его. Равно как и я не мог предполагать даже, каким образом мои стихи, использованные в одном танцевальном представлении, смогут настолько изменить свой смысл после событий 11 сентября. Дело не в том, как творчество просто отвечает на какие-то текущие события, но как предыдущее творчество меняет свой смысл под воздействием событий и как оно меняет смысл самих этих событий. Суть этих неизбежно фрагментарных воспоминаний в том, что эти самые звенья общей цепи не были изолированными, а были взаимосопряженными, свидетельствующими о том, что кто-то где-то размышляет о поэзии, о творческом процессе в поэзии, о критическом отношении к речевым и мыслительным привычкам, к институциональным предпосылкам о функции искусства. Поэзия как что-то случающееся с другими случающимися вещами. Как что-то случающееся в языке и с языком, находящимся в осаде. Поэзия как память, порой память о будущем. И самое главное — поэзия как опыт, по слову Филиппа Лаку-Лабарта. (Он бы еще добавил, поэзия как размыкание «поэтического», но об этом как-нибудь в другой раз.)
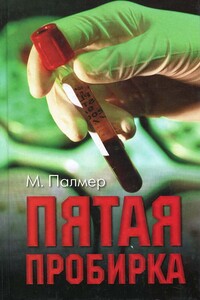
Студентка медицинского колледжа из Бостона отправляется в Южную Америку на конференцию, но неожиданно становится жертвой жестокого преступления. Во время операции ей удаляют легкое, как потом выясняется вовсе не с целью спасти жизнь. В тысячах милях от нее блестящий ученый медленно умирает от неизлечимой болезни легких... В Чикаго не слишком удачливому частному детективу поручают выяснить личность неизвестного юноши, погибшего на автостраде, на теле которого обнаружены странные следы...Студентка-медик.
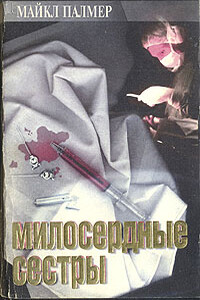
В Бостонской больнице после успешно проведенных операций неожиданно и без видимых причин умирают пациенты. Объединившиеся в Союз ради жизни медсестры поклялись прекращать бессмысленные страдания больных…
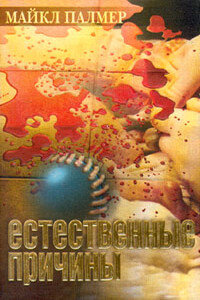
В медицинском центре Бостона молодая врач Сара Болдуин исповедует методы нетрадиционного лечения, широко используя на практике возможности восточной медицины. Между тем, во вверенном ей отделении начинают необъяснимо умирать роженицы, и сама Сара вынуждена бороться за свою жизнь...

Изобретен миниатюрный робот по прозвищу АРТИ. Это — прорыв в нейрохирургии. С появлением АРТИ, способного удалять труднодоступные опухоли мозга, воплотилась в реальность сокровенная мечта нейрохирурга Джесси Коупленд. Но ее мечта превращается в кошмар, когда о существовании АРТИ узнает преступник. Увлекательный роман о сенсационных медицинских открытиях с напряженным, насыщенным сюжетом.

Владимир Михайлович Тихонов (корейское имя — Пак Ноджа, р. 1973) — российский, затем норвежский востоковед, активный деятель левого движения в Южной Корее. После окончания Восточного факультета Ленинградского государственного университета защитил кандидатскую диссертацию по истории Древней Кореи в МГУ (1996). С 1997 года живет и работает в Южной Корее, с 2001 года — гражданин Южной Кореи. С 2000 года изучает и преподает историю Кореи и других стран Восточной Азии в Университете Осло в Норвегии.С 2000 года участвовал в работе Корейской демократической рабочей партии (КДРП) в качестве партийного лектора и публициста, печатался в партийной газете «Чинбо чончхи» («Прогрессивная политика») и теоретическом журнале КДРП «Ирон ква сильчхон» («Теория и практика»)

Душа народа, национальный характер, генетический код – понятия, с которыми связаны непосредственным образом формирование нации и государств, судьба их. Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю нашей общей Родины – России, наложили трагический отпечаток на самосознание народа, проживающего на ее территории. Автор и редактор книги, для которых боль родной земли и родного народа стали их главной личной болью, однако не впадают в отчаяние и не теряют веры в возрождение великой страны. Что питает надежду их? – читайте в предлагаемой книге.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

Издание избранных сочинений известного публициста Геннадия Пискарева вызвано не только возрастающим интересом к его творчеству, но и возрождающейся активной созидательной деятельностью нашего государства.В сборник включена небольшая, но наиболее яркая часть материалов, опубликованных в свое время в популярнейших периодических изданиях – в журналах «Огонек», «Крестьянка», «Сельская новь», «Советский воин», в газетах «Правда», «Сельская жизнь», и других.

Николай Афанасьевич Сотников (1900–1978) прожил большую и творчески насыщенную жизнь. Издательский редактор, газетный журналист, редактор и киносценарист киностудии «Леннаучфильм», ответственный секретарь Совета по драматургии Союза писателей России – все эти должности обогатили творческий опыт писателя, расширили диапазон его творческих интересов. В жизни ему посчастливилось знать выдающихся деятелей литературы, искусства и науки, поведать о них современным читателям и зрителям.Данный мемориальный сборник представляет из себя как бы книги в одной книге: это документальные повествования о знаменитом французском шансонье Пьере Дегейтере, о династии дрессировщиков Дуровых, о выдающемся учёном Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мартовский номер «ИЛ» открывается романом чилийского писателя Эрнана Риверы Летельера (1950) «Фата-моргана любви с оркестром». Сюжет напоминает балладу или городской романс: душераздирающая история любви первой городской красавицы к забубенному трубачу. Все заканчивается, как и положено, плохо. Время действия — 20–30-е годы прошлого столетия, место — Пампа-Уньон, злачный городишко, окруженный селитряными приисками. Перевод с испанского и примечания Дарьи Синицыной.

Рассказы македонских писателей с предуведомлением филолога, лауреата многих премий Милана Гюрчинова (1928), где он, среди прочего, пишет: «У писателей полностью исчезло то плодотворное противостояние, которое во все времена было и остается важной и достойной одобрения отличительной чертой любого истинного художника слова». Рассказы Зорана Ковачевского (1943–2006), Драги Михайловского (1951), Димитрие Дурацовского (1952). Перевод с македонского Ольги Панькиной.

Гарольд Пинтер (1930–2008) — «Суета сует», пьеса. Ужас истории, просвечивающий сквозь историю любви. Перевод с английского и вступление Галины Коваленко.Здесь же — «Как, вы уже уходите?» (Моя жизнь с Гарольдом Пинтером). Отрывки из воспоминаний Антонии Фрейзер, жены драматурга — перевод Анны Шульгат; и в ее же переводе — «Первая постановка „Комнаты“» Генри Вулфа (1930), актера, режиссера, друга Гарольда Пинтера.