Соловецкое чудотворство - [21]
Просыпается — красота какая в природе! Ветра как не бывало, гладь ровная, молочно-белая, и всё окрест окутано туманом в розовых лучах солнца восходящего. Возликовала душа беглеца, и погрёб он своей досочкой с новой силой. Всё веселее солнышко светит, сквозь туман пробивается, золотом отливает. Ветерок свежий — зефир утренний — чуть дохнул, туман рассеивается, расползается. И видно ему, горемычному, сквозь туман близкое очертание земли. Эх, да ни один путник, ни один корабельщик не радовался так виду желанной земли, как беглец бесталанный! Ах, ты земля, родная, твёрдая, прими сына своего блудного! Вот и берег, вот и свобода! Никому не удавалось достичь берега материкового, а ему счастье. Тут крепче дохнул ветерок и совсем туман развеяло. До чего ж хорош, весел берег перед ним! Вот камешки береговые, вот деревца стоят — ёлочки пушистые, а меж них рябинка алыми гроздями голубому небу кланяется. Вот и горка в отдалении возвышается зелёной шапкой. А вон белеется… — и сердце обмерло — белеются, белыми лебёдушками в воде отражаются церковки, Китеж-градом из воды выплывают, утренним солнцем осиянные… Да страшнее страшного узнику краса эта, чудная красота славного монастыря Соловецкого! Вот как! Пока он, измученный, в лодке спал, морским течением его на старое место вынесло — такие уж течения вкруг островов Соловецких, назад они тянут, на волю не пускают. Уже видит он и фигурки на берегу, и голоса слышит — СЛОН пробудился, завозился — зовёт к себе каторга соловецкая. И тогда он, бедолага, перекрестившись, а может, и не крестившись, в воду кинулся… Так одну пустую лодку и нашли.
Бегали, многие бегали по острову. Иные чтоб только денёк на воле побыть, а потом будь что будет. Прежде-то, когда бабы на острове были, вместе бежали, чтоб любовью насладиться. За это полагалось: мужикам — Секирка, бабам — Зайчики. А потом проще стало — на месте стреляли. Конвою даже интересно было, когда бежали: оленей-то они всех перебили, за двуногим зверем стали охотиться.
И всё ж бежали, какие б строгости ни были. Всё одно ведь погибать. Прежде-то, как отсидишь срок, так отпускали, а теперь не слышно, чтоб кто-то на волю выходил, да и всем из нас срока навешаны такие, что одна всем воля — из зоны вперёд ногами… Как тут не бежать? Всё равно куда, везде одна дорога…
Вот и решился один такой. Загляделся он на красу соловецкую, на озёра тихие и не выдержал. Прямо с лесоповала и дёрнул. Да заметили его, погоню наладили. Стреляли в него, не попали, тогда собак вслед пустили. Он одно озеро переплыл, другое, в болоте покружил, запутал след. До ночи бегал, вымок и устал так, что ноги не несут. Думал хоть денёк на воле побыть, а видел только, как ветки мелькают, слышал, как вода чавкает и как псы злобные брешут по следу. Вот и воля: мокрому, усталому, голодному — всё одно в лесу погибать. А ещё дождичек пошёл, окладной, холодный, нет сухого места в лесу — хоть след беглеца он замыл, да что теперь с того? Сил нет идти и спрятаться под ёлкой невозможно — липнет мокрая одежда к телу, трясёт и знобит его. Уже идти не может, ползёт он. Ползёт, ползёт, в глазах туман кровавый… или это ему в тумане огонёк показался? Ещё прополз и видит — прямо перед ним дыра в земле светится. Смотрит туда и видит: землянка и есть в ней кто-то. Пригляделся: теплится перед образом лампада, стоит на коленях старец с белой бородой до земли, а рядом гроб. У беглеца сил нет слово произнести, вскрикнул он слабо и тут же чувств лишился…
А ты, писатель, меня не перебивай, не говори, что я всё к божественной инстанции свожу. В сказе этом есть смысл, сам поймёшь… Не сержусь, ни на кого я теперь не сержусь… Только вот что я думаю. На воле ты, писатель, что тенор знаменитый Леонид Витальевич Собинов или гениальный бас Фёдор Иванович Шаляпин, все тебя слушают и аплодируют, а в походе солдатам не тенор нужен, не бас, а запевала, а в каторге трепач вроде меня, вот меня и слушают. И ты слушай, коли любо.
Так о чем бысть я? Про лагерных голубочков, Ромео и Джульетты вроде, или про беглеца вроде Монте-Кристо Соловецкого? Совсем ты меня, писатель, с толку сбил. Ах да, про схимника…
Не верите, что был такой? Был и жил в землянке в потайном месте. Что война была, что революция и вся заваруха — до него не доходило: давно он себе гроб из колоды вырубил — домовину, в ней и спал, а остальное время Богу молился. Всё людское забыл, сло́ва не молвил — молчальником был, с одним Богом беседовал, и столь древен был, что новые монахи его имя забыли, а спросить у него не могли. Носили ему пищу раз в три дня — когда возьмёт, а когда лисицы съедят, а потом, в заваруху, и носить перестали, и тропу забыли, и те из монашествующих, кто на острове оставался, не знали — жив или почил в Бозе.
Только однажды, рассказывают, собрался первый начальник лагеря Соловецкого гражданин-товарищ Ногтёв на охоту и, как новоявленный князь соловецкий, притомившись за потехой, выехал на полянку и наехал на пещеру схимникову. Вынул из кармана флягу, тут же её разом высосал и послал своего адъютанта разузнать, что за непорядок такой на вверенной ему в управлении территории. Тот в землянку слазил и докладывает: «Живёт там какой-то полоумный старик, и дух у него тяжёлый». Начальник тогда сам в землянку пошёл. Что там было — неведомо, только вышел оттуда начальник смирный-пресмирный и всю дорогу молчал, а когда адъютант спросил его, что со стариком делать, прикрикнул: «Кто старика тронет, тому — вот!» — и по кабуре своей похлопал. Говорят, присмирел с тех пор, а то был зверь зверем — из каждой партии вновь прибывших нескольких собственноручно из маузера шлёпал. Молва-то доносит, что каким-то образом узнал начальник от схимника свой смертный час, да это домысел — разве мог молчальник говорить? Но то, что начальника самого вскоре шлёпнули — верно. Известно, на Соловках и стража и страждущие — все под смертью ходят.

«Трилогия московского человека» Геннадия Русского принадлежит, пожалуй, к последним по-настоящему неоткрытым и неоценённым литературным явлениям подсоветского самиздата. Имевшая очень ограниченное хождение в машинописных копиях, частично опубликованная на Западе в «антисоветском» издательстве «Посев», в России эта книга полностью издавалась лишь единожды, и прошла совершенно незаметно. В то же время перед нами – несомненно один из лучших текстов неподцензурной российской прозы 1960-70-х годов. Причудливое «сказовое» повествование (язык рассказчика заставляет вспомнить и Ремизова, и Шергина) погружает нас в фантасмагорическую картину-видение Москвы 1920-х годов, с «воплотившимися» в ней бесами революции, безуспешно сражающимися с русской святостью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

От редакции. В ознаменование 60-летия Манифеста Комитета Освобождения Народов России мы публикуем избранные фрагменты доклада, сделанного на собрании Франкфуртской группы НТС в 1985 г. (полный текст был опубликован в "Посеве" №№ 4,5 за 1985 г.). Автор — выпускник биологического факультета МГУ, аспирант АН СССР. В августе 1941 г., будучи старшим лейтенантом Красной армии, попал в немецкий плен. Член НТС с 1942 г., председатель Союза в 1972–1984 гг. Один из основных авторов "Пражского Манифеста", подписавший его псевдонимом "А.

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.
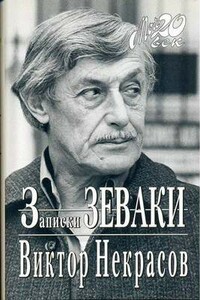
«Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний».
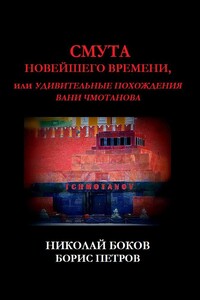
Повесть о том. как вор карманник похитил из мавзолея голову Ленина. . . С иллюстрациями, предисловиеми и примечаниями, переработанное.
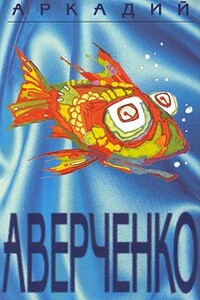
В пятый том сочинений А. Аверченко включены рассказы из сборников «Караси и щуки» (1917), «Оккультные науки» (1917), «Чудеса в решете» (1918), «Нечистая сила» (1920), «Дети» (1922), «Кипящий котел» (1922). В том также вошла повесть «Подходцев и двое других» (1917) и самая знаменитая книга эмигрантского периода творчества Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921).http://ruslit.traumlibrary.net.
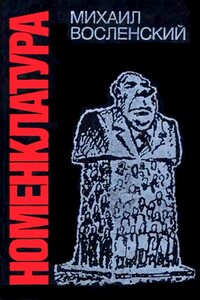
Книга принадлежит к числу тех крайне редких книг, которые, появившись, сразу же входят в сокровищницу политической мысли. Она нужна именно сегодня, благодаря своей актуальности и своим исключительным достоинствам. Её автор сам был номенклатурщиком, позже, после побега на Запад, описал, что у нас творилось в ЦК и в других органах власти: кому какие привилегии полагались, кто на чём ездил, как назначали и как снимали с должности. Прежде всего, книга ясно и логично построена. Шаг за шагом она ведет читателя по разным частям советской системы, не теряя из виду систему в целом.