Соло на флейте - [4]
– Чем?
– B-moll. Си-бемоль-минорная тональность. Основа гармонии! Видите, вы даже этого не знаете…
– К-хе… Продолжайте!
– Первые результаты нас очень обнадежили: всего несколько тактов эволюции, буквально пара миллионов лет – и уже Иоганн Себастьян Бах! Помните? Па! – тирата-тутита… тадада – ти-и-и!.. та-тара-тада…
– Да-да.
– Вы помните?
– В общих чертах.
– Нет! Вы не помните! И хотите меня обмануть. Как это стыдно! Стыдно!
– К-хе… Э-э… Продолжайте!
– Мы ждали гармонической эволюции вида! Мы бы тогда не были так одиноки во Вселенной! А дождались иприта и группы «Рамштайн». На одного Россини – миллионы тонн бессмысленного белка. Ложь, жестокость и идиотизм. Какой печальный итог, не правда ли?
– Продолжайте.
– Сначала мы не хотели вмешиваться – цивилизация B-moll склонна к покою и созерцанию. Но когда вы со своим белком полезли наружу…
– Поясните это.
– Когда вы запустили спутник! Земля начала экспансию в космос, и на B-moll было принято решение повысить степень контроля. И тогда здесь появился я.
– Как?
– Меня вживили в белковую массу…
– Уточните это.
– Что?
– Про белковую массу!
– Мою материнскую плату звали Таисия Сырцова. Она обитала неподалеку от места вашего первого запуска.
– На Байконуре?
– Да.
– Ваша мать умерла?
– Нет. Не знаю. Это неинтересно.
38. Милицейская справка
«Копытьева Таисия Петровна (в девичестве Сырцова), 1936 года рождения, не судима, в настоящее время проживает по адресу: г. Астрахань, Камчатская ул., дом 38, кв. 12. Муж – Копытьев Семен Андреевич, умер в 1998 году…»
39. Разговор у подъезда
– За Таисией приходили!
– Менты?
– Не менты! В штатском трое. На иномарке увезли.
– Таисию?
– Ну!
– А она?
– А что ей? Она ж с пасхи пьяная. Пела, матами несла их…
– Песец старой. Ща ее утрамбуют наконец.
– Не утрамбуют! Она их матами, а старшой вежливо так, говорит: Таисия Петровна, прошу садиться. А молодой вещи ее несет!
– Чего это, а?
– Не знаю. Может, она миллионный житель?
– Чего миллионный житель?
– Не знаю.
40. Допрос. Продолжение
– Откуда вы получали информацию по физике, химии, геологии?
– Из Википедии.
– Зачем?
– Мне было интересно, как тут все устроено.
41. Протокол беседы
«Я, Копытьева Таисия Петровна, в девичестве Сырцова, являюсь человеком. В 1957–62 годах работала уборщицей-посудомойкой в пос. Басмандык (космодром Байконур), где в 1959 году родила сына Сергея при следующих обстоятельствах. Находясь в общежитии вспомогательного состава, я вышла вечером на крыльцо покурить в степь, где увидела в темноте горящие фары. Голос сказал «иди сюда», и я подошла, где все и случилось. Других подробностей не помню, будучи в нетрезвом состоянии. Кто это был, не знаю…»
42. Обсуждение
– Я не понял. Так в итоге: это кто был?
– Да не помнит она! Пьяная была…
– Ну он хотя бы человек?
– Не помнит!
– Блин. Ладно, хорошо хоть не голубь…
43. Допрос. Продолжение
– Когда вы узнали о своем задании?
– Это не задание. Это миссия.
– Когда и как вы это узнали?
– Мне это передали прямо в голову.
– Когда это случилось?
– Несколько лет назад.
– Как часто происходили сеансы связи?
– Раз в неделю.
– Вы передавали информацию с помощью флейты?
– Да. А как же еще?
– Почему вы считаете, что это слышали в вашей галактике?
– Я получал подтверждение, что сигнал получен.
– Как происходило подтверждение?
– Прямо в голову.
– Кто передал вам флейту?
– Флейту я купил. В магазине «Музтовары».
– Почему флейту?
– Мне передали, что надо купить флейту, и я купил флейту.
– Как вам это передали? Ах да…
44. Протокол беседы. Продолжение
«Сын, Сырцов Сергей, родился в январе 1959 года и вырос вне брака слабым. Ел без аппетита, вопросов об отце не задавал, космонавтикой не интересовался. Часто плакал без объяснения причин. Отношений с сыном не поддерживаю с 1976 года, когда он уехал, по его словам, куда-нибудь отсюда. С моих слов записано верно, Копытьева Таисия Петровна. Дата, подпись».
45. Допрос. Окончание
– И вы передали окончательное заключение?
– Да. Окончательное отрицательное заключение.
– Когда?
– Три дня назад. Когда тот человек привез мне флейту.
– Вы передали заключение с помощью флейты?
– Да. Я же вам говорил!
– И что теперь?
– Ничего. Все.
– В каком смысле?
– Этот эксперимент закончен.
– Это был эксперимент?
– Да. Я же вам говорил!
– И… что дальше?
– Я думаю, в другой раз надо будет попробовать небелковую материю.
– Что значит «в другой раз»?
– Когда-нибудь.
– То есть… Погодите, а мы?
46. Крик в кабинете
– Млять!
Млять!
Мля-ять!
47. Разговор под портретом
– Так точно, товарищ генерал! Свернут Солнечную систему. За ненадобностью.
– Как свернут?
– Он говорит: в коврик.
– Полковник, вы что, смеетесь?
– Никак нет. Свернут в коврик, поставят в уголок. Он так сказал.
– Когда?
– Вчера, товарищ генерал!
– Когда свернут?
48. Выволочка
– Какого зуя вы разрешили ему играть на флейте?
– Товарищ генерал…
– Я спрашиваю: какого зуя вы дали ему флейту, капитан Корнеев? А? Филармония здесь? Вы знаете, что вы наделали своей флейтой?
– Виноват, товарищ генерал! Готов искупить.
– Ка-ак? Как вы собираетесь это искупить?
– Я…
– Вы лудак, товарищ капитан, и закончите жизнь лейтенантом! Причем очень скоро.
49. В администрацию президента РФ, строго секретно
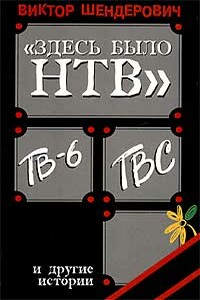
Считается элегантным называть журналистику второй древнейшей профессией. Делают это обычно сами журналисты, с эдакой усмешечкой: дескать, чего там, все свои… Не будем обобщать, господа, – дело-то личное. У кого-то, может, она и вторая древнейшая, а у меня и тех, кого я считаю своими коллегами, профессия другая. Рискну даже сказать – первая древнейшая.Потому что попытка изменить мир словом зафиксирована в первой строке Библии – гораздо раньше проституции.
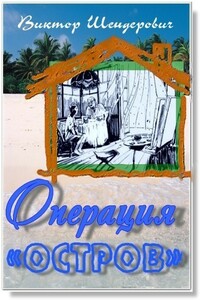
Те, кто по ту сторону телеэкрана составляет меню и готовит все это тошнотворное, что льётся потом из эфира в несчастные головы тех, кто, вопреки еженочным настоятельным призывам, забыл выключить телевизор, сами были когда-то людьми. Как это ни странно, но и они умели жить, творить и любить. И такими как есть они стали далеко не сразу. Об этом долгом и мучительном процессе читайте в новой повести Виктора Шендеровича.
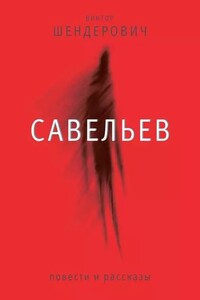
Новая повесть Виктора Шендеровича "Савельев» читается на одном дыхании, хотя тема ее вполне традиционна для русской, да и не только русской литературы: выгорание, нравственное самоуничтожение человека. Его попытка найти оправдание своему конформизму и своей трусости в грязные и жестокие времена — провалившаяся попытка, разумеется… Кроме новой повести, в книгу вошли и старые рассказы Виктора Шендеровича — написанные в ту пору, когда еще никто не знал его имени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
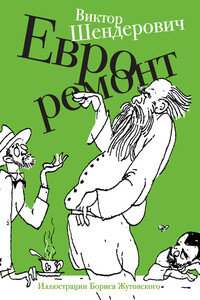
В новый сборник Виктора Шендеровича вошли сатирические рассказы, написанные в разные, в том числе уже довольно далекие годы, но Россия – страна метафизическая, и точно угаданное один раз здесь не устаревает никогда.Тексты этой книги, лишенные общего сюжета или сквозного героя, объединены авторским определением – “Хроники любезного Отечества”… А еще – соединяют их в единое целое яркие и ироничные иллюстрации блестящего и уже давно ставшего классиком Бориса Жутовского.
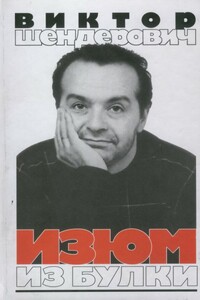
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
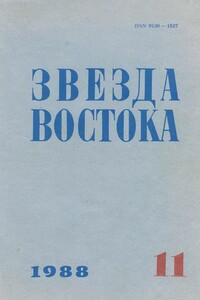
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рецепт популярности в светском обществе прост: «Расскажите им нечто пугающее, волнующее, пикантное из вашей жизни или жизни кого-либо из ваших близких, и они сразу заинтересуются вами. Они будут с особенной гордостью рассказывать о вас».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Забавный иллюстрированный справочник-определитель полумифических, мифических и совсем уж легендарных животных.
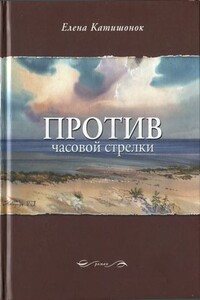
Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.
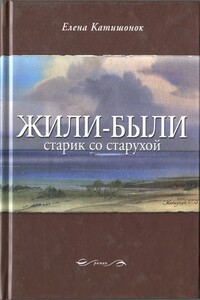
Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.
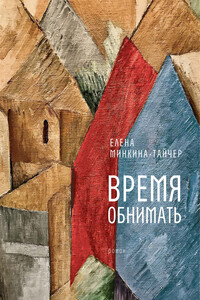
Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.
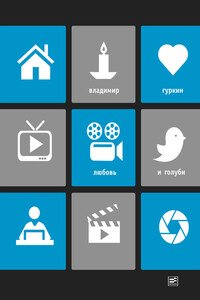
Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)