Солнечный день - [15]
Ничего себе отдых! На обратном пути мама кряхтела под огромной вязанкой хвороста, а я толкал скрипящую тачку, накинув на шею поводья. И думал о том, что подобные песенки придумывают господа, покупающие дрова за деньги, так же как картошку и капусту. Они и понятия не имеют, что такое тяжелая тачка, которую надо тащить по растрескавшейся от жары полевой тропинке. Я мечтал, что, когда вырасту, никогда ноги моей в лесу не будет.
Мама знала, о чем я думаю:
пела она, утешая меня.
Мама пела постоянно: когда стряпала, когда молотила зерно, когда ворошила сено, пока у нее не начинало першить в горле от пыли. Пела, когда сбивала масло, когда купала ребятишек, когда шила. Пела в церкви, набожно и восторженно, в то время как я, безбожник, орал:
И размышлял: что же это за ремесло такое — оисцелитель? А может быть, звание, ведь он же Всевышний! Ритм песни вынуждал хор верующих сокращать междометия, соединяя их с последующими словами, и возникали новые — овсевышний, оисцелитель, — значения которых я не понимал.
Мама могла петь и работать одновременно. Мне было хорошо, если она пела. Хуже было, если она мечтала.
Я так никогда и не узнал, о чем она грезила. Может быть, о моем отце, который окончил в городе училище и поначалу, пока нужда не загнала его на каменоломни, был практикантом в строительной конторе? Быть может, о том, что мы могли бы жить в городе, не изнуряя себя полевыми работами, а картошку и капусту покупать за деньги? Что я мог бы носить матроску с накрахмаленным воротником и брючки, а не грубые полотняные, ниже колена штаны, которые мне на вырост покупал отчим? Может быть, она видела меня с красивым кожаным ранцем на спине, а не с брезентовой, ею сшитой сумкой? На ногах у меня крепкие ботинки, а не разбитые опорки отчима, зимой утепленные его портянками, теми, что остались еще с первой мировой войны. Или вспоминала, как она танцевала с папой под каштанами «На Павлинке»? Не знаю! Но о родном отце мне мало что известно. И о его родителях тоже. От бабушки, маминой мамы, я слышал, что мой отец родился невесть от кого, он был внебрачным. Бабушка частенько говаривала, что папаша у моего отца был, да сплыл. Мать любила мужа без памяти, и были они городские.
У меня сохранилась одна-единственная папина фотография. На ней он, мама и я. Я сижу между родителями на круглом резном столике, мама такая хрупкая и неправдоподобно молодая. У отца волосы разделены на прямой пробор, у него вислые усы и веселый взгляд. Губы, раздвинутые в легкой улыбке, открывают крупные здоровые зубы.
Иногда, вспомнив отца, я старался выудить у мамы хоть что-нибудь. Но узнал не так уж много. Мама в таких случаях приходила в смущение, лицо заливала краска, словно я затронул нечто недозволенное, какой-то давний, полузабытый грех. Она обрывала песню и не пела до самого вечера, а то и несколько дней. Я отвык расспрашивать об отце и постепенно совсем о нем забыл.
Возможно, мама думала о своих девичьих годах в деревне, где они жили с бабушкой, дедом-кладовщиком и дядюшкой Яном в доме мясника Стржигавки. Дед с бабушкой считались людьми обеспеченными, они покупали картошку и капусту за деньги. Об этом ли, о другом ли — не знаю, знаю только, что мама грезила. Руки ее вдруг бессильно опускались, взгляд застывал и становился отсутствующим и далеким. Вся она замирала, и работа останавливалась.
Отчим продолжал трудиться, словно не замечая этого. Его движения становились иными, ритм убыстрялся, он выходил из себя, бесился, но лишь иногда бросал на маму косые взгляды, которых она в те минуты совсем не замечала. Она как будто уходила из нашего измерения и времени. Уходила с бесконечного картофельного поля в какой-то иной мир, ее просто не было с нами. Частенько случалось, что, пребывая в этом таинственном состоянии души, она пускала из-под длинных юбок струйку, как будто выключалась не только душевно, но и физически. Я узнавал об этом позже, по мокрому пятну на сухой земле, которое через несколько минут испарялось на солнце. Отчим не любил, когда мама так вот уходила в себя. И в такие минуты вкалывал со все большей энергией. Его мотыга яростно сверкала на солнце. Значительно опередив нас, он разгибал спину, выпрямлялся, и лицо его принимало свирепое и вместе с тем оскорбленное выражение. Он глубоко, со свистом втягивал воздух своими поросшими волосами ноздрями и тихо предупреждал:
— Скоро стемнеет.
Мама вздрагивала, будто грубо разбуженный ото сна ребенок, смущенно краснела, опускала платок на лоб, бралась за дело и не останавливалась, пока не догоняла отчима. Отчим, присмирев, продолжал работать, теперь уже в своем обычном темпе, без передышки. Но так и не мог угомониться и все причитал о пропавшем зря времени нудно и громко:
— Другая работает с охотой…
— Другая не пялится на небо…
— Другая старается…
— Другая имеет совесть…
Мне казалось, что отчим сравнивает маму с какой-то незнакомой женщиной, с какой-то придуманной батрачкой, которая работает без устали и без остановки, подгоняемая неведомой силою, будто механическая веялка. Сам он был именно таким. И хотя все мы в его глазах выглядели паразитами и прихлебателями, хорошо все-таки, что он был именно таким. Им владела неотвязная страсть, непреодолимое желание вырваться из вечного плена батрацкого полунищенства, уйти от постоянного страха перед тем, хватит ли до весны корове сена, корма для овец и коз, пока их не выгонят на пастбище, хватит ли картошки в подполе до нового урожая. Его сжирали видения стихийных бедствий, бурь, длительных ливней, засухи, града, которые могут уничтожить урожай. Любое уклонение от ежедневной изматывающей работы он считал леностью, а леность — самым смертным из всех грехов. Он верил в жестокого, ветхозаветного Бога, который карает за малейшее прегрешение. Иисус же, тот самый, кого мама на рождество воспевала в просветленных надеждой песнопениях, ему служил орудием мести, карающей десницей. Работая, отчим постоянно угрюмо напевал под нос о том, что на Страшном суде:

Прошлое всегда преследует нас, хотим мы этого или нет, бывает, когда-то давно мы совершили такое, что не хочется вспоминать, но все с легкостью оживает в нашей памяти, стоит только вернуться туда, где все произошло, и тогда другое — выхода нет, как встретиться лицом к лицу с неизбежным.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

За что вы любите лето? Не спешите, подумайте! Если уже промелькнуло несколько картинок, значит, пора вам познакомиться с данной книгой. Это история одного лета, в которой есть жизнь, есть выбор, соленый воздух, вино и море. Боль отношений, превратившихся в искреннюю неподдельную любовь. Честность людей, не стесняющихся правды собственной жизни. И алкоголь, придающий легкости каждому дню. Хотите знать, как прощаются с летом те, кто безумно влюблен в него?
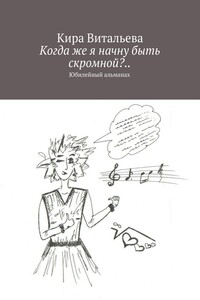
Альманах включает в себя произведения, которые по той или иной причине дороги их создателю. Это результат творчества за последние несколько лет. Книга создана к юбилею автора.

Помните ли вы свой предыдущий год? Как сильно он изменил ваш мир? И могут ли 365 дней разрушить все ваши планы на жизнь? В сборнике «Отчаянный марафон» главный герой Максим Маркин переживает год, который кардинально изменит его взгляды на жизнь, любовь, смерть и дружбу. Восемь самобытных рассказов, связанных между собой не только течением времени, но и неподдельными эмоциями. Каждая история привлекает своей откровенностью, показывая иной взгляд на жизненные ситуации.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.
