Смуглая дама из Белоруссии - [33]
— Тра-та-та-та-та.
За моей спиной — на одном из портретов Тодзио — стоял Айки Бендельсон с каской в руках. Свободной рукой он растягивал уголок левого глаза.
— Убей, — выкрикнул он, — убей моряка!
Я припустил домой.
— Лео, ну не убил ты ни одного японца, мне-то что? Тебе не обязательно быть героем. Да хоть шпионом будь, мне без разницы. Ведь ты мой брат.
Он сидел на кровати Алби и курил. Рука тряслась, дым беспорядочными клубами поднимался к потолку. С ушей и подбородка градом катился пот. Окно за его спиной было отворено, и я слышал, как аккордеон играет «Поднять якоря»[64]. Он улыбнулся и протянул мне носовой платок:
— Возьми, Сол. Не надо плакать в день собственной бар мицвы.
— Можешь ничего не объяснять, Лео. Мне это не важно!
— Выслушай, Сол, выслушай меня. Я держался только благодаря Оги. Думаю, он боялся еще больше моего. Боялись все, кроме разве что некоторых совсем чокнутых. Но Оги умел меня и других парней из отряда отгораживать от войны. Он ко всему относился с юмором. Даже во время боя скакал и делал вид, что его подстрелили в задницу. Сержант ругался и грозился оставить его в джунглях, но понимал, что без его выходок нам не обойтись.
Лео закрыл глаза, запрокинул голову и выпустил дым через нос.
— Сол, а уж какой он был урод! Его носу Пиноккио бы позавидовал.
Я засмеялся и вытер глаза братниным платком.
— И лицо у него было все в оспинах, прыщах, ямках. Как только его в армию взяли, ума не приложу. Ни лопатой орудовать, ни банку консервную открыть не мог и, если бы не я, спал бы под открытым небом, без палатки. Сол, он совсем был беспомощным. Наверное, если бы он все время не хохмил, от него можно было бы с ума сойти.
Было неясно, смеется Лео или плачет, но я на всякий случай вернул ему платок.
— Знаешь, Сол, попадись мне Оги на тренировочной базе, я бы счел его придурком и держался бы на расстоянии. Я собирался воевать серьезно и сачков не терпел. Пока другие парни резались в кости или карты, я сидел на своей койке и воображал, как буду захватывать немцев и спасать евреев. А потом, когда увидел размозженные головы, вздутые, позеленевшие руки-ноги, увидел, как танки катятся по мертвым телам, мне уже не хотелось никого спасать. Хотелось лишь самому остаться в живых. Но когда Оги был рядом, все казалось не таким страшным. Япошки были ему до лампочки. Он вел собственную войну — с тихоокеанскими скорпионами и многоножками. Стоило ему увидеть скорпиона, как он, улюлюкая, бежал за своим штыком — погонять скорпиона. Только тогда он за штык и брался. Он вызывал скорпиона на поединок, а парни из отряда становились в круг и болели кто за Оги, кто за его противника. Бывало, он загонял скорпиона в джунгли, но если тот решался напасть в ответ, Оги убегал и прятался за сержанта или за меня.
Лео закурил новую сигарету. Руки у него по-прежнему дрожали, и он чуть не выронил спичку. Предложил мне затянуться.
— Хорошо, — смутился я. — Мне уже можно. Тринадцать как-никак.
Сигарета была сплошная горечь, и я закашлялся прямо Лео в лицо. Лео помахал рукой, разгоняя дым. На улице Айки Бендельсон строчил из своего пулемета.
— Знаешь, Сол, когда снайпер подстрелил Оги, мне показалось, я чуточку рехнулся. Мы все рехнулись. Сбили того японца с дерева огнеметом. Он упал весь обугленный и продолжал шипеть и плавиться, а каждый из нас, по очереди, на него помочился. Я потом еще дня два-три ходил, словно обезумев, и крошил тела всех мертвых японцев, что мне попадались. А по ночам сидел в своем окопе и плакал, уткнувшись в каску. Мне было страшно, Сол, страшно. Всякий раз, как мы отправлялись в дозор, я шел и оставлял за собой гильзы. Сержант сказал, что если я буду продолжать в том же духе, японцы в два счета вычислят наш лагерь. Стоило дереву зашелестеть, я мчался в укрытие. А когда перед атакой пускали сигнальные ракеты, хоронился в своем окопе и с головой накрывался накидкой. Меня перевели в другой отряд, но это не помогло. И тогда меня с фронта направили в тот госпиталь — жалкие две комнатки у входа в какую-то пещеру. Там я играл в пинг-понг с двумя санитарами, но в основном доставал из коробок медицинские приспособления и, когда японцы нас бомбили, помогал переносить раненых в пещеру. Я рассчитывал, что меня так и оставят при госпитале, но через неделю меня перевели в прежний отряд. Я не паниковал, отнюдь; я просто целыми днями сидел в окопе и придумывал игры. Вспомнил как можно больше игроков Американской лиги, разбил их на восемь команд и составил расписание матчей. Игру я вел с помощью карточной колоды. Черные тузы означали хоум-ран[65], пиковый король — трипл, любая королева — даббл. Я тянул карты из колоды и играл. Джо Димаджио. Двойка бубен. Страйк-аут! У меня Джо Димаджио и Хэнк Гринберг играли в одной команде. И когда приходил черед бить Гринбергу, я слегка мухлевал и вытаскивал черного туза или короля. За полсотни игр он выбил семьдесят восемь хоум-ранов. Меньше чем за две недели я провел с полтысячи игр. А по ночам вспоминал Оги. Иногда я воображал, будто он сейчас со мной, в моем окопе, и мы болтаем или играем в шашки. Я забывал о сигнальных ракетах, о бомбах, о снайперах на деревьях. У меня над головой рвались снаряды, а я как ни в чем ни бывало беседовал с Оги или играл в бейсбол. И тогда они отправили меня в Новую Зеландию.

Сборник из рассказов, в названии которых какие-то числа или числительные. Рассказы самые разные. Получилось интересно. Конечно, будет дополняться.
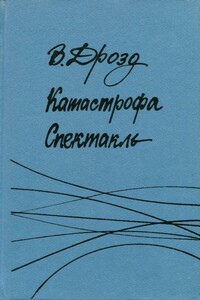
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

Сборник посвящен памяти Александра Павловича Чудакова (1938–2005) – литературоведа, писателя, более всего известного книгами о Чехове и романом «Ложится мгла на старые ступени» (премия «Русский Букер десятилетия», 2011). После внезапной гибели Александра Павловича осталась его мемуарная проза, дневники, записи разговоров с великими филологами, книга стихов, которую он составил для друзей и близких, – они вошли в первую часть настоящей книги вместе с биографией А. П. Чудакова, написанной М. О. Чудаковой и И. Е. Гитович.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
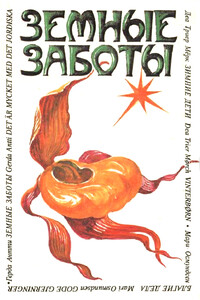
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.
