Скошенное поле - [160]
— Спасибо за гостеприимство. И извините.
Светало. Открывались неясные, голубые дали. На горизонте стлался желтовато-грязный туман. Байкич прошел через изгородь подстриженного кустарника и вымочил руку: кусты, проволока, железная ограда, рельсы, пыльный вьюнок — все было покрыто росой. Сердце Байкича колотилось. От росистого утра, от холода, от ожидания. Больше от волнения, чем от холода. В буфете третьего класса стрелочники и кондукторы в длинных овчинных тулупах, — возвращаясь с работы или спеша на работу, — на скорую руку выпивали свою утреннюю порцию ракии. Снаружи послышался сигнальный колокол. Байкич быстро проглотил чашку черного кофе и вернулся на платформу. Над ровными полями сквозь дымку ночного тумана поднимался красный шар солнца. Байкичем все сильнее и сильнее овладевало волнение. На линии группа рабочих толкала дрезину, нагруженную инструментами; худощавый человек в синей блузе шел вдоль состава товарных вагонов и равномерно постукивал молотком по колесам; звон их гулко разносился в тихом утреннем воздухе; пустая крестьянская телега, скрипя колесами, мелькала в кукурузе; на всем лежал отпечаток грусти, и все имело глубокий жизненный смысл. Но это мирное спокойствие вокруг, эта осмысленность движений, свидетельствующая о существовании твердого порядка, — все вызывало в Байкиче беспокойство и тревогу. В нем самом не было порядка — он был опустошен, выхолощен, в нем, как в заброшенной церкви, звучали лишь голоса прошлого — законом для него была его возмущенная совесть, маленький слабый проблеск среди разбушевавшихся стихий. И этот проблеск он должен защищать голыми руками. Он чувствовал, как поддается страху. Повсюду он наталкивался на собственную беспомощность. В каждой вещи, в каждом человеке он, как в зеркале, видел свою беспомощность.
— Как хорошо, что вы меня встретили!
Перед ним, протягивая руки, стояла Александра с растрепавшимися волосами, по-юношески гибкая, в синем костюме. Байкич напрасно силился сказать хоть слово. Ее руки ждали его, он их взял, смущенно улыбнулся; раньше чем он пришел в себя, ее дыхание коснулось его лица, словно обещание поцелуя — стоило только поднять голову, — но он порывисто нагнулся и стал целовать ее руки. Поезд уже тронулся.
Он растерялся, не зная, что делать. Стоял — с горящим взором, сознавая свое поражение, — в узком и пустом коридоре вагона; в открытое окно врывались ветер и едкий дым паровоза. Он дышал прерывисто… и продолжал держать ее руки.
— Как хорошо, что вы меня встретили! — повторила Александра.
Взгляд ее был полон такой нежности, что Байкичу показалось, будто она его приласкала.
Надо было что-то сказать. Все равно что. Лишь бы почувствовать облегчение.
— Вы не завтракали?
Она готова была заняться чем угодно, лишь бы двинуться с места, не стоять так, вдвоем, в смущении, в этом узком коридоре. Александра пошла вперед; он поддерживал ее под руку, помогая проходить по коридорам и из вагона в вагон. При толчках поезда их поминутно бросало друг к другу, и он все крепче прижимал ее к себе. Это прикосновение стало причинять ей боль, но и эта боль доставляла ей теперь удовольствие — она воспринимала ее как ласку.
Вагон-ресторан был залит светом; на столиках стояли свежие цветы. Рекламные плакаты — пальмы и синее море или швейцарские гостиницы среди ледников — рассказывали о дальних краях, о беспечальной жизни, о бешеных деньгах и преходящей любви. Александра и Байкич заняли столик на двоих. Как только они сели, Александра со смехом оторвала гвоздику из букета в вазе и воткнула ее Байкичу в петлицу.
— Я иногда умею наслаждаться и в то же время быть сентиментальной.
— А я часто бываю таким… без наслаждения.
Он был недоволен собой. По лицу его пробежала тень. Он отвел глаза от Александры. А она стала смотреть в окно и несколько минут следила за отражением их лиц в толстом стекле; за окном простирались бескрайние кукурузные поля. Вдруг, стуча колесами, поезд прошел мимо сторожки: сторож, словно часовой, встречал и провожал поезд своим красным флажком; ставни еще были закрыты; в узеньком садике, за светло-зеленым забором горели на раннем солнце красные и желтые георгины. Садик мелькнул и исчез. И снова в клубах серого дыма стали проноситься мимо окна телеграфные столбы.
— Вы видели? — Александра дотронулась до руки Байкича кончиками пальцев (они были холодные).
Байкич вздрогнул. Он понял, что пережил в это мгновение нечто необычайное — что случается единственный раз в жизни, — коснувшись, хоть и с тоской в душе, самого совершенного счастья, какое дано человеку. И так мало нужно было для этого: садик, человек с флажком, на ставнях вырезанное сердце, юное сердце, он, Александра, высокое небо, невысказанные слова.
Александра первая пришла в себя. Положила сахар и стала наливать чай и молоко.
— Если бы мне довелось это пережить месяц тому назад… я бы жалел, что такие минуты не могут длиться вечно.
— А теперь не жалеете?
— Нет. К чему мне вечность? Да и в высшей степени глупо было бы желать… чтобы жизнь оставалась прежней.
— Или жизнь стала бы бесконечно глупой, если бы такое желание могло исполниться. Быть может, ценность жизни в том и заключается, что человеку не дано ее остановить. — И, помолчав немного: — И, может быть, так лучше.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
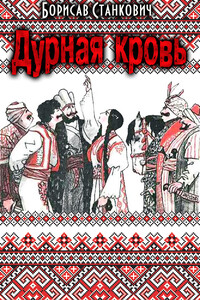
Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейший представитель критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В романе «Дурная кровь», воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, автор осуждает нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
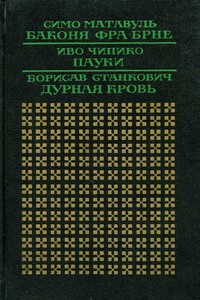
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.