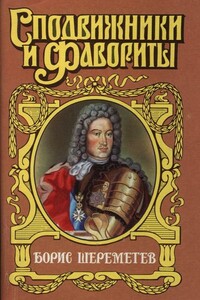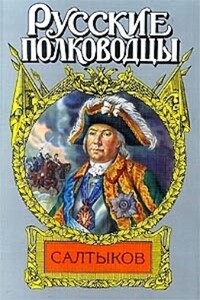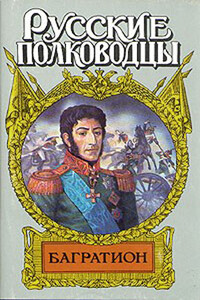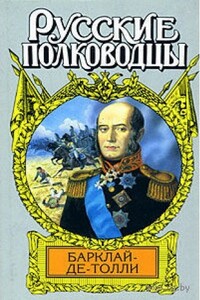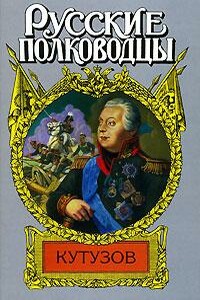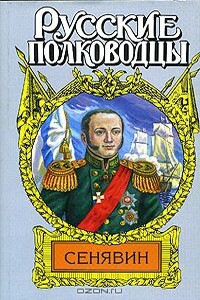И со стороны бочки грохнул выстрел, пуля, взвизгнув над самой головой Рожинского, впилась в верхнюю косячину входной двери. Гетман и пригнуться не успел. И сразу затрещали выстрелы с обеих сторон. Шмелями зажужжали над головами пули. И тут народ кинулся врассыпную. Мгновенно опустела площадь, обезлюдило крыльцо, осиротела бочка.
Рожинский, морщась от боли в раненом плече — его кто-то толкнул об косяк, когда они под свист пуль кинулись в избу, — ругался:
— Тышкевич-негодяй был там у бочки. А? Это каково, пан Александр?
— Надо уходить, Роман Наримунтович, — отвечал Зборовский. — Уходить, пока мы не перестреляли друг друга или не прихватил нас тут Скопин.
Заруцкий, стоя у окна, молча тер шею, на ладони была кровь.
— Иван Мартынович, — спросил его Зборовский, — тебя зацепило, что ли?
— Да щепка отлетела от косяка и по шее мне.
— Ну щепка — не пуля. Кто там начал стрелять, вы не заметили?
— Черт их знает.
— Кто-то из ваших казаков.
— Возможно, — согласился Заруцкий. — Там их было больше половины.
— Они, ясно, уйдут в Калугу, — сказал Рожинский. — А вы, атаман Заруцкий?
— Что я там потерял?
— Значит, вы с нами?
— Разумеется. У короля под Смоленском отряд донцов, мое место там, возле них.
— Да, выбор невеликий, — вздохнул Зборовский. — В Калуге — дурак, в Кремле — мерзавец.
— Под Смоленском тоже не Македонский, — съязвил Рожинский.
— Но и на небо рано, — в тон ему ответил Зборовский.
— Александр Самуилович, распорядись там, пусть позовут Тышкевича и Меховецкого.
— Вы думаете, они явятся?
— Чем черт не шутит, паны все же.
Зборовский послал рассыльного звать панов Тышкевича и Меховецкого. Однако тот, воротившись, доложил:
— Меховецкого не нашел, а Тышкевич сказал, что с предателями не хочет иметь дело. Они уже там в обозе возы запрягают.
— Возы? — насторожился Рожинский.
— Да. На Калугу сбираются.
Гетман скрипнул зубами — не то от собственного бессилия, не то от разбереженной раны.
— Иван Мартынович, у тебя есть лично тебе преданные казаки?
— А как же, Роман Наримунтович, мои станишники со мной в огонь и в воду.
— Потребуются в огонь. Прикажи им сегодня вечером поджечь табор, сразу со всех сторон. Чтоб было море огня. Да, да, господа воеводы и атаманы, уходим, ничего не оставляя врагу. Н-ничего.
— Государь, государь, — тряс царя за плечо постельничий. — Василий Иванович!
— Ась, — вспопыхнулся Шуйский. — В кои-то веки задремал, а ты…
— Тушино пластат, Василий Иванович. Тушино!
— Как пластат? Чего несешь, Петьша?
— Горит воровское гнездо.
Шуйский побежал к западным окнам дворца. Стекла румянились от зарева, полыхавшего в тушинской стороне. Несмотря на то что горел вражеский стан, на душе было тревожно. Москве пожары — досада.
— Кабы до нас не дошло, не перекинулось.
— Так тихо ж, Василий Иванович, ветра-то нет. И потом, там Ходынка… Пресня. Не перескочит.
— Дай Бог, дай Бог, — бормотал царь, мелко крестясь, не смея еще радоваться, но уже моргая от подступающих слез облегчения — горит воровское гнездо, «пластат».
Гетман Рожинский уводил остатки войска на запад, дабы присоединить его к королевской армии и этим заслужить прощение. В обозе перемешались сани, телеги. Скрипели давно немазанные колеса, прыгая на не оттаявших колдобинах, шипели на раскисшем снегу полозья саней. Кашляли, матерились возницы, полосуя кнутами измученных, надрывающихся лошадей.
Хмуро шагали пешие ратники, проклиная и гетмана, и короля, и царей, валя всех в одну кучу.
Атаман Заруцкий, исполнив со своими станичниками приказ гетмана, обгоняя пехоту, догнал его возок.
— Роман Наримунтович, пробач, я пошел вперед.
— Езжай, Иван Мартынович, жди меня в Волоколамске.
Заруцкий, ничего не ответив, хлестнул плетью коня, переводя его с ходу на рысь. За ним, растягиваясь по обочине, скакали его станишники, обрызгивая пехоту грязным мокрым снегом. Ратники с завистью смотрели им вслед, не желая ничего хорошего: «Шоб вам пропасть, идолам!»
Прибыв в Иосифо-Волоколамский монастырь, где решено было передохнуть после нелегкой дороги, Рожинский не застал там Заруцкого. Монахи сообщили, что казаки, покормив коней, выгребли в торбы последнее жито и уехали.
Забравшись в одну из келий, Рожинский решил отдохнуть, но едва прикрыл глаза, как прибежал адъютант, сообщил с тревогой:
— Пан гетман, войско бунтует.
— Опять? — изморщился Рожинский. — Кто там мутит?
— Руцкой с Мархоцким.
— А где Зборовский?
— Ой там, пытается успокоить, просит вас быть.
— Черт бы их драл, — ворчал Рожинский, поднимаясь с ложа. — Помереть не дадут.
С помощью адъютанта он добрался до трапезной, где стоял шум и гам. И Зборовский, забравшись на стол, безуспешно старался перекричать это скопище. Увидев Рожинского, обрадовался, крикнул:
— Роман Наримунтович, объясните вы им, дуракам.
Жолнеры взвыли от такого оскорбления, забрякали саблями. Адъютант помог гетману влезть на лавку, с нее — на стол.
Рожинский с почерневшим измученным лицом обвел горящим взором толпу, увидя, что она не боится его, спросил с ненавистью:
— Какого вам черта надо?
И там, от окна, неожиданно закричал Руцкой:
— Нам надо знать, кто оплатит нам прошлые труды? Король? Так он пошлет нас подальше. Может быть, ты, гетман?