Синяя тень - [12]
— Не хочется… Вот если бы с Никаноровной…
Лег, а стали будить — оказалось, умер.
Хоронили их не только всей улицей — чуть ли не всем Городом-садом. Вместе вошли Петро и Полина в дом — вместе и вышли, И не какая-нибудь катастрофа, дорожное происшествие — сама жизнь. Они жили долго, но долгая жизнь оказалась короткой — умерли же они в один день.
На кладбище среди густой череды жестких стел из железа и мраморной крошки, которые ржавеют и разваливаются быстрее, чем проходит кратковременная память, есть один общий широкий холмик, две надписи на общем памятнике и общая фотография: большая, грудастая женщина с очень темными глазами, не то страдальческими, не то сердитыми — и прислонившийся к ней казачок с пшеничными мягкими усами; Евсюки Петр Гаврилович и Полина Никаноровна.
Они жили долго и счастливо и умерли в один день.
Час открытых дверей
Василию Сергееву
…В юности, говорите вы? Ну как же, тоска была, как же ей в юности не быть? Вселенская тоска, любовная тоска, бытовая тоска — какой только тоски не было!
И теории были. Возможно, для ухода от этой многоголовой тоски. Для преоборения ее даже. Да, мол, сейчас мы все еще недочеловеки — с огромными усилиями, большой кровью, с ошибками и провалами решаем земные проблемы, ну а ко вселенским-то еще только-только приступаем. Да и как приступить по-настоящему, если каждый сам себе пуп земли, ну а Вселенная-то попросту может и не замечать эти пупы. Но — постепенно дойдем мы, сольемся в сверхчеловечество, даже в надчеловечество, и тогда-то уж станем соизмеримы со Вселенной; быта и мелких подробностей уже не будет, а будет что-то вроде торжественного «а-а-а!» — заключительный вечный аккорд, в котором сольются человечество и Вселенная.
С этим сверхчеловечеством было проще простого: торжественное «а-а-а!» — и все тут.
Но я был довольно способным малым, преуспевал в физике и математике, и меня тянуло не просто на аккорды. Кстати, слуха у меня никогда не было, но для заключительного аккорда, по-моему, его и не нужно было, к тому же говорили, что у меня внутренний слух, и так, наверное, оно и было, потому что вот это «а-а-а!» я слышал очень отчетливо в минуты духовного просветления. Так вот, в силу моих способностей к обобщениям и теориям меня тянуло не только на аккорды, но и на схемы. Прекрасная схема, надо сказать, получилась у меня однажды. Я знал, что не с самого начала иду, но линия, в какую бы сторону она ни продолжалась, уже была линией, костяком мира. В ровные квадратики с перемычками — уже квадратики, помню, мне нравилось делать очень тонко и ровно — я поместил последовательно «элементарную частицу», «кристалл», «молекулу» и прочее. Над «живой клеткой» восходила вертикаль — «жизнь», «человек», «общество». В этом месте я, правда, посомневался, что выше: «человек» или «общество». Понадобилось даже волевое, я бы сказал, волюнтаристское усилие, и — повернул все же! Не помню уж, что над чем. А дальше совершенно ясно: «сверхсоциум». И — свершилось: тут — мир, тут — я, владеющий. Весь мир, собранный в горсть. А потом, что бы со мной, лично со мной ни было, но это уже есть. Было и будет. Да, стоило схему нарисовать, и я уже как бы владел Вселенной. Больше, чем владел. Она уже была несущественна, поскольку определена и предопределена… Был ли это восторг? Да нет. Скорее гордое, горделивое удовлетворение, как бы успокоение, что все идет, как надо, и моя тоска несущественна. Возможно, даже и тоска-то, думалось мне, от того, что я вижу так далеко вперед, а мелкая действительность, как болото, держит меня, не давая заглянуть в сам этот сверхсоциум, в это слияние, в это «а-а-а!», в эти заключительные бессмертие и вечность.
Вот такие были мои юношеские дела. Не то чтобы тоска шла сплошняком и ступить шагу не давала. Нет — и девочки мне нравились, и школьные успехи тщеславно вкушал я, и копать огород родителям помогал, и к старшему умному брату тянулся, и меньшему брату, обожавшему меня, покровительствовал. Все — не выбиваясь из общего деловитого ритма. Не без того, конечно, что изредка остановишься от парализующей тебя тоски, но тут же, как больной за таблетки, начнешь хвататься за слова: «Что?.. Что такое?.. Да, жизнь, быт… Но… есть восходящая… И… сверхсоциум». И даже попробуешь представить его, если не зрительно и умственно, то вот этим «а-а-а!». Получится — значит, подскочишь и вдвое быстрее задвижешься. Не получится — начнешь вытягивать себя за волосы из болота: мол, хоть и не представить, а есть, будет и… стойкость и мужество!
Была, наконец, и любовь — умопомрачительная, со стихами и балдением возле нее, с ее полувосхищением, полуснисходительностью к моей неординарной личности.
И вот… шел я однажды к ней от электрички. Можно было к их дому ездить и трамваем, но электричкой было быстрее, и к тому же словно переносило меня в некую отдаленность и давало возможность внутренне подготовиться к встрече. Шел я от электрички знакомой дорогой по немощеным улицам, еще в лужах ночного дождя, но уже быстро подсыхающим от ясного весеннего солнца. Шел вдоль заборов и штакетников. Довольно рассеянно шел — не то думал о чем-то, не то смотрел вокруг. Но невнимательно. Так, поглядывал. Когда я поднимал взгляд вверх, то веток на деревьях вдоль дороги, особенно мелких, узких веточек, казалось вдвое больше, чем зимою или поздней осенью. Улица шла по склону холма, и тут и там на холме, возле домов, и в огородах, и вдоль улиц розовели цветущие жердёлы. Слабее, рассыпаннее, но белели уже и вишни. Цветущие ветви свешивались через сплошные заборы, просовывались сквозь штакетник. Взгляд мой задержался на цветущей, чуть не задетой мною ветви — и так сильно вдруг все увиделось! И пушистые от тычинок маленькие цветы с мелкими неправильностями: то мал и кривоват лепесток, то тычинка не вполне тычинка, а как бы даже и лепесток, и отогнутые книзу чашелистики тоже не то чтобы ровно отогнуты. Тычинки желтые, но при другом повороте как бы уже и розовые. Ах, да все розовато было, даже собранные в щепоть крохотные листочки! А уж всего розовее были выпятившиеся надрезанными кругляшками цветочные почки. И пахло, пахло все это — нежно и чуть горьковато. Я сказал — «все пахло», и можно подумать, что это был ровно растворенный в воздухе аромат. Так нет же. Аромат, как нимб, каждый свое дерево окружал.

Повесть о том, как два студента на практике в деревне от скуки поспорили, кто «охмурит» первым местную симпатичную девушку-доярку, и что из этого вышло. В 1978 г. по мотивам повести был снят художественный фильм «Прошлогодняя кадриль» (Беларусьфильм)
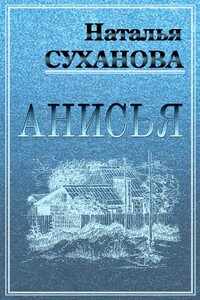
«Девочкой была Анисья невзрачной, а в девушках красавицей сделалась. Но не только пророка в своем отечестве нет — нет и красавицы в своей деревне. Была она на здешний взгляд слишком поджигаристая. И не бойка, не «боевая»… Не получалось у Анисьи разговора с деревенскими ребятами. Веселья, легкости в ней не было: ни расхохотаться, ни взвизгнуть с веселой пронзительностью. Красоты своей стеснялась она, как уродства, да уродством и считала. Но и брезжило, и грезилось что-то другое — придвинулось другое и стало возможно».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Главные герои этой повести уже знакомы читателю по книге «В пещерах мурозавра». Тогда они совершили необыкновенное путешествие в муравейник. А сейчас в составе научной экспедиции летят к далекой загадочной планете, где обнаружена жизнь. Автор развивает мысль о неизмеримой ценности жизни, где бы она ни зарождалась и в каких бы формах ни существовала, об ответственности человека, которого великая мать Природа наделила разумом, за ее сохранение и защиту.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
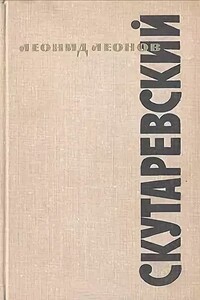
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
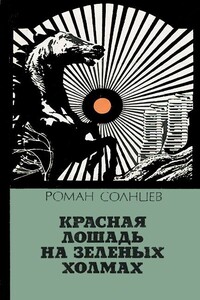
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.
