Шут и Иов - [4]
Совершенные одеты здесь в белое (старая графиня лежит в гробу в белом, «белой дамой» приходит она к Германну). Здесь уже двойной смысл. От «Дам» первых уровней, которые имеют еще узнаваемые читателями прообразы современниц, он переходит уже полностью к самому Пушкину.
Принц крови, более законный в этом, чем все монархи с Петра III, Пушкин указывает и на область, где произошел обрыв, показывает изнутри. «Святая империя», которую создал Петр I, и принял титул «император» как высшее звание Розы и Креста, потеряла связь с прошлым. Белая одежда избранных или совершенных есть прямые намеки на костюм тамплиеров.
Известно также, что организация розенкрейцеров, которая публично заявила о себе в 1604 г. (Декарт тщетно стремился установить с ней отношения), объявила о себе «антипапистской» (как тут не вспомнить, что Головин был «святейшим папой» на выворачиваемых наизнанку пародиях на конклавы кардиналов и т. д.).
Красный цвет преобладает даже в быту у Пушкина. Почти вся мебель — красного цвета, и не только на последней квартире; хоронили его в гробу с красно-розовой обивкой; ходил в красной рубахе. В Болдино письменный стол (святое место!) тоже красного дерева. Перо Гёте, которым он очень дорожил, помещалось в красный сафьяновый футляр. В Михайловском его любимое кресло было обито красным репсом. Даже любимое вино А. С. — мадера, вино красного цвета. Именно видна тяга П. ни к собственно красному, а к красноватому (то есть розовому) цвету. Пушкин, как известно, носил перстень с древнейшей надписью: крупное золотое кольцо с большим камнем красного цвета, в которое был вделан восьмиугольный сердолик (камень Весов, но не по современной, а по древней системе). С 15-й степени — начинается собственно красное масонство.
Пушкин даже носил 18-фунтовую палку[4]. В капитулах Розы и Креста (шотландская 18-я степень — рыцарь розового креста) название теологических добродетелей ассоциируется соответственно с тремя словами девиза: «Свобода, Равенство, Братство»; можно также их сблизить с теми, что называют тремя главными опорами Храма, символически представленными в степенях «Мудрость, Сила, Красота».
Шесть лет длится процесс над тамплиерами, и 18-го марта 1314 г. Великий Магистр Яков Молэ был сожжен на медленном огне. Он горел несколько часов, и призвал папу и короля предстать вместе с ним на Суд Божий в том же году. Папа умер через сорок дней, и тело сгорело от опрокинутой свечки в то время, когда оно стояло в церкви, а король Филипп Красивый умер через год.
Вот почему тело «императора» Петра Великого шесть лет стояло непогребенным на катафалке в Петропавловской крепости. Орден тамплиеров, основанный Гюгом де Найеном, подготовил гигантское переустройство мира на принципах — Свободы, Равенства, Братства. Число 60 повторяется несколько раз, и все применительно к «старой графине».
Первый раз — как «60 лет тому назад бабушка в Париже проиграла герцогу Орлеанскому что-то очень много». Великим магистром был уже регент Людовика XV, и его преемниками были герцог де Тон, принц Бурбон-Кондэ и герцог Коссе-Бриссак. А вот последним магистром был Филипп Орлеанский, который принял имя Эгалите, так как клятва мести не позволяла ему править орденом, сохраняя свое имя.
В последствие, будучи якобинским членом Конвента, голосовал за казнь короля, а во время террора погиб сам[5]. (Германн, уходя уже от мертвой старухи, представляет, что когда-то, 60 лет назад, к ней пробрался вот так любовник). Начало повести как бы переносится во вторую половину XVIII века. Графиню спасает Сен-Жермен. Но вот как раз он и появляется в России в 1762 году. Он тогда близко сошелся с графом Орловым и играл значительную роль в восшествии Екатерины II на престол. Маркграф Аншпахский был свидетелем дружеской встречи Сен-Жермена с графом Орловым в 1774 году в Нюрнберге; Орлов называл его «caropadre», подарил ему большую сумму денег, и говорил, что Сен-Жермен много содействовал успеху переворота 28 июня 1762 года.
Томский говорит, что она не открыла тайны четверым своим сыновьям — «тайна на четыре стороны». Но существует четыре Великие ложи — Восточная (Неаполь), Западная — Эдинбург, Северная — Стокгольм и Южная — Париж. И что мы видим в «Даме» — эпиграф к V главе из Сведенборга, великого шведского мистика и эзотериста указывает на север. Повесть как бы начинается в Париже: знаменитая ключевая фраза о «небрачном сыне» обращена к англичанину.
В 1782 году Россия (по эзотерической географии) остановится в подчинении Швеции (а точнее, Северной Великой ложе), и превращается в восьмую провинцию строгого наблюдения. «Горек чужой хлеб, говорил Данте…». После двух исторических имен — последнее из четырех — Данте.
Данте был одним из руководителей Третьего Ордена (тринитариев), ведущего свое происхождение от тамплиеров; поэтому Данте не без основания в качестве гида в конце своего небесного путешествия берет Святого Бернара, основавшего Орден Тамплиеров, — и этим он хотел сказать, что только через его посредничество можно получить доступ к высшей степени духовной иерархии.
Часто исследователи находили много соотношений между концепциями Данте и… Сведенборгом. «Горек черный хлеб, — говорит Данте, — и тяжелы ступени…». Именно в Мистической лестницей Кадош (30 степеней шотландского масонства) называется изотерическая иерархия.

Эта книга посвящена нескольким случаям подделки произведений искусства. На Западе фальсификация чрезвычайно распространена, более того, в последнее время она приняла столь грандиозные размеры, что потребовалось введение специальных законов, карающих подделку и торговлю подделками, и, естественно, учреждение специальных ведомств и должностей для борьбы с фальсификаторами. Иными словами, проблема фальшивок стала государственной проблемой, а основу фальсификаций следует искать в глубинах экономического и социального уклада капиталистического общества.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.
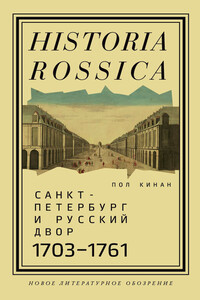
Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».
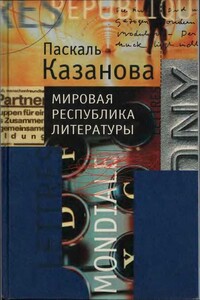
Паскаль Казанова предлагает принципиально новый взгляд на литературу как на единое, развивающееся во времени литературное пространство, со своими «центрами» и периферийными территориями, «столицами» и «окраинами», не всегда совпадающими с политической картой мира. Анализу подвергаются не столько творчество отдельных писателей или направлений, сколько модели их вхождения в мировую литературную элиту. Автор рассматривает процессы накопления литературного «капитала», приводит примеры идентификации национальных («больших» и «малых») литератур в глобальной структуре. Книга привлекает многообразием авторских имен (Джойс, Кафка, Фолкнер, Беккет, Ибсен, Мишо, Достоевский, Набоков и т. д.), дающих представление о национальных культурных пространствах в контексте вненациональной, мировой литературы. Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Projet» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия и Института «Открытое общество» — Будапешт.
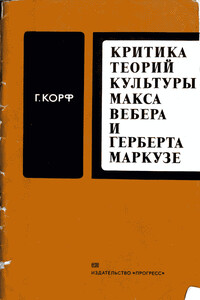
Аннотация издательства: «Книга представляет собой критический очерк взглядов двух известных буржуазных идеологов, стихийно отразивших в своих концепциях культуры духовный кризис капиталистического общества. Г. Корф прослеживает истоки концепции «прогрессирующей рационализации» М. Вебера и «критической теории» Г. Маркузе, вскрывая субъективистский характер критики капитализма, подмену научного анализа метафорами, неисторичность подхода, ограничивающегося поверхностью явлений (отрицание общественно-исторической закономерности, невнимание к вопросу о характере способа производства и т.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".