Шут и Иов - [3]
А долг дед — Головин закрыл, хотя исследователи удивляются: «такие сведения вызывают недоумения. Из залоговых долгов редко удавалось выйти без очень больших жертв».
Существует интереснейшая деталь в гербе Пушкина. На ней изображена графская корона, княжеская корона (княгиня-графиня Голицына), одноглавый орел и меч. Но дело в том, что графской короны Пушкиным никто не присваивал. Ее вырезал один из прадедов А. С.! Получения графского достоинства при Елизавете, как известно, удостоились многие дети царской крови (тот же Чернышев), но «головинское дело» было скандальным, и поэтому прадед Пушкина мог себе позволить лишь это, и то уже многое, а двор сделал вид, что не заметил самоуправства.
Рене Генон, размышляя об эзотеризме Данте, писал: «Данте совершенно определённо указывает, что в его произведении содержится скрытый смысл, для которого внешний и явный смысл только покрывало, и который должен быть найден теми, кто способен за него проникнуть. В другом месте поэт идет еще дальше, заявляя, что письменность, а не только священные писания могут быть поняты и должны истолковываться принципиально в четырех смыслах. Очевидно, впрочем, что эти различные значения ни в коем случае не должны разрушать друг друга или друг другу противопоставляться, напротив, они должны дополнять друг друга и согласовываться, как части одного целого, как составные элементы единого синтеза».
Обычно первый уровень — уровень описания — изучают исследователи. Остальные можно разъединить только условно, так как перед нами неделимая литературная ткань произведения, а уровни указывают на моменты идеи повести.
Старая графиня, срисованная с Голицыной и Загряжской, как карточная дама, поворачивает нам грани замысла скрытого, не поверхностного. Хорошо известно, что Пушкин необычайно тщательно подбирал эпиграфы к главам — в частности, ко II, где приводятся слова М. А. Нарышкиной (жены именно «пасквильного» рогоносца) Д. Давыдову. И это тоже не случайно. Н. К. Загряжская была дочерью гетмана Разумовского и… Е. И. Нарышкиной. И если одна сторона «Пиковой Дамы» — Голицына — символизирует «идею царской крови», то другая — Загряжская-Нарышкина — ее пересечение. Основатель империи, Петр Великий, был по матери Нарышкиным (никакой эзотеризм использования фамилии Романовых не допускал).
Пушкин часто бывал у Загряжской и записывал ее воспоминания и истории XVIII века. И он не мог не знать таинственного предания (которое уже к написанию «Дамы» почти сбылось) ветви Нарышкиных. Брат «эпиграфной Нарышкиной» Ив. Ал. Нарышкин хранил бороду московского юродивого Тимофея Архиповича, доставшуюся от своей прабабки (т. е. с петровских времен). Борода имела значение талисманов рода: пока она будет храниться в семье, род не пересечется и останется верным православию. Борода хранилась на шелковой подушке с крестом в особом ящике. Но уже при Ив. Ал. при переезде в новый дом ее съели белые мыши, которых он же и положил в ящик.
Предсказание сбылось — двое сыновей умерли бездетными, а у третьего, Григория, не было мужского потомства. Его дочери вышли замуж за католиков, а третья — и вообще стала католической монахиней. Линия Петра, кровь Петра, Нарышкина пересеклась. И известно, где.
Дед Пушкина и отец Ив. Ал. Нарышкина остались верны Петру III, последнему носителю крови Петра. Отец Ив. А. Нарышкина, камергер при Петре III, даже находился в числе лиц, сопровождавших Петра III в его неудачном бегстве из Ораниенбаума в Кронштадт. Как и у Пушкиных, карьера их закатывается.
Но и перерыв «царской крови» неслучаен. «Пиковая Дама» означает тайную недоброжелательность. Почти все имена и фамилии несут в повести смысловую нагрузку. «Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного». И здесь мы вступаем в область не только не случайных цифр, но и неслучайных имен. В цифровом значении повесть концентрируется на трех цифрах — двух явных и одной скрытой, которая как бы замыкает две остальных.
Возраст старухи указан точно — 87 лет. Германн хочет выиграть в «фараон». Что из этого? Он хочет узнать «верные карты», чтобы сыграть максимально. Это «игра на руте» в «фараоне». Сама игра крайне проста. Банкомет объявляет ставку, понтер вынимает карту и кладет на стол (банкомет не знает, какую, при крупных суммах новая колода). Банкомет раскладывает оставшуюся колоду налево и направо. Если та карта, которую вытащил понтер, легла справа от банкомета, выиграл он, если слева — понтер. Увеличение ставки в два раза называется «пароли», в 4 раза — «пароли-пе». «Руте» заключается в том, что после розыгрыша первой ставки она тут же удваивается, затем после второго раза учетверяется и после третьего — увосьмиряется. Подобная очень азартная система дает возможность первоначальную ставку увеличить в восемь раз. Во времена Пушкина этого не надо было объяснять.
Старуха 87-ми лет должна дать Германну 8-кратное увеличение (именно в восемь раз, так как больше играть ему было запрещено). Этим Пушкин еще раз подчеркнул цифру 8, а не принцип «игры на руте». Восьмое небо, звездное небо — это небо Розенкрейцеров.
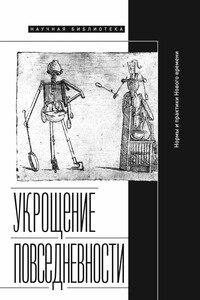
Одну из самых ярких метафор формирования современного западного общества предложил классик социологии Норберт Элиас: он писал об «укрощении» дворянства королевским двором – институцией, сформировавшей сложную систему социальной кодификации, включая определенную манеру поведения. Благодаря дрессуре, которой подвергался европейский человек Нового времени, хорошие манеры впоследствии стали восприниматься как нечто естественное. Метафора Элиаса всплывает всякий раз, когда речь заходит о текстах, в которых фиксируются нормативные модели поведения, будь то учебники хороших манер или книги о домоводстве: все они представляют собой попытку укротить обыденную жизнь, унифицировать и систематизировать часто не связанные друг с другом практики.
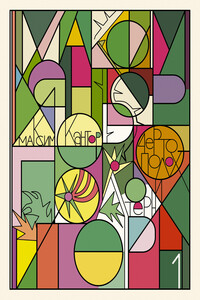
Книга «Чертополох и терн» – результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина – это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории – постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Первая часть книги – «Возрождение веры» – охватывает период с XIV в. до Контрреформации. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .