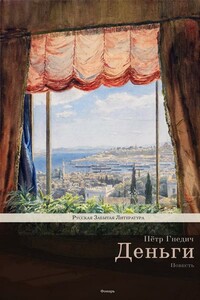Семнадцать рассказов (сборник) - [56]
— Каковы нравы, друг Горацио? — обратился он к Ракитину.
— Кое-где редакторы действуют успешно, — продолжал Аеров тем же невозмутимым тоном.
Веркутов сразу стих, задумался и потёр лоб.
— Хорошо, что вы мне сказали, — сквозь зубы проговорил он, и сощурившись посмотрел на него, — вы не хотите ли черкнуть слова два? — прибавил он.
Аеров ткнул папиросу в пепельницу, быстро встал и словно про себя сказал: «Потом сочтёмся»…
— Пройдите в контору, там спросите бумаги и чернил. — вместо ответа сказал Веркутов. — Отца родного жиду заложит и под квитанцию денег займёт, — прибавил он, когда дверь за Аеровым затворилась.
— Какой это Талалаев? — полюбопытствовал Ракитин.
— Бывший конногвардеец, теперь в отставке, известный богач.
— Так за что же на него пасквиль?
— Богат! — решил Веркутов и, позвонив в колокольчик, осведомился, подан ли завтрак. — Пойдёмте заморить червячка, как раз время.
Собственник того издания, где Веркутов состоял редактором, Блюменфест, был в это время с семейством за границей, и без него Веркутов распоряжался как дома, обедая и завтракая в задних комнатах, непосредственно прилегавших к конторе. Небольшой круглый столик был покрыт поверх джутовой скатерти салфеткой с горчичными пятнами. По стенам висели какие-то голые дамы в самых отчаянных ракурсах и с невозможными лядвеями. В углу крякал попугай в огромной клетке. На кронштейнах обнимались нимфы и сатиры. Ракитин отказался от водки, сказав, что он до обеда не пьёт никогда.
— Ну рябиновой, — серьёзно тряся головой предложил редактор, — или оранж-амер? Ну, хотя нюи?..
Он налил ему стакан бургонского и принялся за цыплёнка.
— Должно быть барышня сейчас приедет, — сказал он. — Она сегодня все редакции объезжает. Такое появление своего рода праздник. Хорошенькая женщина в журнальном департаменте — это ужасная аномалия…
Он с ожесточением перегрызал кости, так что попугай каждый раз вздрагивал и однажды даже присвистнул.
— Вы кажется не совсем ясно поняли, что мы говорили о Талалаеве? — спросил Веркутов. — Очень просто: дурак этот ездит по редакциям, потому что над ним подшутил какой-нибудь приятель, написал ему анонимное письмо: вот, мол, тебя обличать хотят. Понятно, он готов тысячу заплатить, чтобы только не напечатали. Глядишь, рублишек триста и в кармане.
— Зачем же ему ездить по разным конторам, если уж он в одном месте заплатил и успокоился?
— А кто ему поручится, что редактор не передаст статейку в другой орган?
— Да ведь это омут какой-то! — невольно вырвалось у Ракитина.
— Омут, — спокойно подтвердил Веркутов, наливая себе нюи и держа бутылку двумя пальцами, чтобы не запачкать горлышко маслом. — Эх, батенька, наша рыночная пресса, ведь это не толстый журнал… Дневи довлеет злоба его…
«Гонорар хочешь?» — ни с того ни с сего спросил попугай и, подумав, прибавил: «миленький, почеши головку, ну, ну поскорей!»
— Вы от нас отстали, проживая за границей, а вы поплавайте в нашей тине. Чукчи, батенька, чукчи. Уж кажется их-то бы, людей печатного слова и должен бы свет коснуться, а между тем…
Из-за двери выглянул конторщик.
— Спрашивают вас, — проговорил он, протягивая карточку.
Веркутов глянул на билетик, и лицо его просияло.
— Просите, просите, — крикнул он. — Я двери настежь растворю, любуйтесь, — сказал он Ракитину, — это Талалаев.
«Кто б это мог быть!» — протяжно и задумчиво заметил попка.
Талалаев был розоватый, пухлый, добродушнейший человек, с круглым, как маленькая картофелина носиком и заплывшими жиром глазками. Ему было очень жарко, и он пыхтел как паровик.
— Вы редактор? Я по делу очень важному и серьёзному, — заговорил он так скоро, что все три фразы сумел сказать как-то одновременно…
— Присядьте, — ответил Веркутов, и сел так, что Талалаев остался совсем на виду у Ракитина, в отворённую дверь.
Талалаев вытер платком мокрое лицо и закачался всем корпусом на диване.
— Вы знаете меня? — внезапно спросил он.
— Слыхал-с…
— Ну, так вот я… — он запнулся, — Вдруг говорят, что вы… то есть не вы. а вообще… будто хотите про меня и жену печатать… про мою жену… печатать.
— То есть что же именно?
Талалаев несколько затруднился, подыскивая выражение. Он покраснел ещё больше. Пот крупными смородинами усеял его лицо.
— Да вообще… Что вот я… жена… и больше ничего.
— Изволите видеть, господин Талалаев, — заговорил мягким, ласкающим голосом Веркутов, — мы если печатаем про кого-нибудь, так не иначе как про людей действительно выдающихся из общего уровня посредственности, про людей так сказать талантливых или хоть чем-нибудь себя заявивших… А ведь согласитесь сами: ни вы, ни ваша супруга…
— Да, да! — обрадовался Талалаев, — я то же говорил! Я говорю: «Мы с тобой, Катя, что же!» она не верит, говорит: «Непременно напечатают — всё! как мы прежде, как мы теперь, всё»… И у меня источники есть, и даже достоверные, что именно вы хотите это напечатать…
— Какие же у вас данные?
— Да уж есть.
Талалаев очевидно врал: никаких данных у него не было, он говорил на удачу.
— Голубчик, не печатайте… Если нужно: я всё что нам угодно… ну… я… я…
«Гонорар хочешь?» — крикнул попугай, и так громко что Талалаев даже спросил:

Петр Петрович Гнедич — русский прозаик, драматург, переводчик, историк искусства, театральный деятель.Книга воспоминаний — это хроника целых шестидесяти лет предреволюционной литературно-театральной жизни старого Петербурга и жизни самого автора, богатой впечатлениями, встречами с известными писателями, художниками, актерами, деятелями сцены.Живо, увлекательно, а порой остроумно написанные мемуары, с необыкновенным обилием фактических деталей и характерных черточек ушедшей эпохи доставят удовольствие читателю.

Интересна ли современному человеку история искусства, написанная почти полтора века назад? Выиграет ли сегодня издатель, предложив читателям эту книгу? Да, если автор «Всеобщей истории искусств» П.П. Гнедич. Прочтите текст на любой странице, всмотритесь в восстановленные гравюры и признайте: лучше об искусстве и не скажешь. В книге нет скучного перечисления артефактов с описанием их стилистических особенностей. В книге нет строгого хронометража. Однако в ней присутствуют – увлеченный рассказ автора о предмете исследования, влюбленность в его детали, совершенное владение ритмом повествования и умелое обращение к визуальному ряду.

Источник текста: Гнедич П.П. Кавказские рассказы. — Санкт-Петербург. Товарищество «Общественная польза», 1894. — С. 107.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», "В камнях", "На рубеже Азии", "Все мы хлеб едим…", "В горах" и "Золотая ночь".Мамин-Сибиряк Д. Н.Собрание сочинений в 10 т.М., «Правда», 1958 (библиотека «Огонек»)Том 1 — с.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
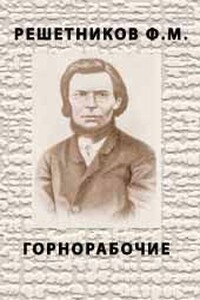
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.