Семейство Таннер - [23]
В комнате у брата он принялся во все глаза рассматривать обстановку, хотя смотреть было особо не на что. В углу стояла кровать, правда весьма любопытная, ведь на ней спал Каспар, и окно тоже чудесное, хотя простенькое, деревянное, с незатейливыми занавесками, зато в него только что выглядывал Каспар. На полу, на столе, на кровати, на стульях лежали рисунки и картины. Гость перебрал пальцами все листы до единого – какая красота, какое совершенство. Симон поразился трудолюбию художника, сколь много тот успел сделать, можно часами рассматривать.
– Природа у тебя как живая! – вскричал он. – Прямо сердце замирает каждый раз, когда я гляжу на твои новые картины. Каждая так прекрасна, лучится чувством и верно передает природу, а ты пишешь снова и снова, хочешь добиться еще большего совершенства, поди, многое уничтожаешь, что, на твой взгляд, не удалось. А вот я не нахожу здесь ни одной неудачной картины, все они трогают меня и завораживают мою душу. Любой штрих, любой красочный мазок твердо и неколебимо убеждают меня в твоем абсолютно чудесном таланте. Глядя на твои пейзажи, писанные кистью с такой свободою и с таким теплом, я всегда вижу тебя и словно бы сочувствую тебе, поскольку догадываюсь, что искусство не ведает конца. Я хорошо понимаю искусство, и беспокойство, в какое оно повергает людей, и стремление вот так искать милости и любви природы. Чего мы желаем, когда с восторгом смотрим на изображенный пейзаж? Только ли наслаждения? Нет, мы желаем, чтобы он что-то нам объяснил, но это что-то определенно останется вовеки необъяснимым. Оно глубоко вторгается в душу, когда мы, лежа у окна, мечтательно созерцаем закатное солнце, но все равно не идет в сравнение с улицей под дождем, когда женщины изящно приподнимают юбки, или с видом сада либо озера под легким утренним небом, или с простой елью зимой, или с ночной прогулкой в гондоле, или с альпийской панорамой. Туман и снег восхищают нас не меньше, чем солнце и краски, ведь туман делает краски чище и утонченнее, а уж снег, например под теплой синью предвешнего неба, и вовсе штука загадочная, чудная, почти непостижимая. Как замечательно, Каспар, что ты пишешь картины, и пишешь превосходно. Я бы хотел быть частицей природы, чтобы ты любил меня так, как любишь всякую частицу природы. Ведь любовь художника к природе наверное невероятно сильна и мучительна, она куда жарче, и трепетнее, и искреннее, чем даже у поэта, к примеру у этакого Себастиана, о котором я слыхал, будто он устроил себе жилье в горной пастушеской хижине, чтобы без помех, словно отшельник в Японии, поклоняться природе. Поэты привязаны к природе наверное не столь крепко, как вы, художники, ведь они обыкновенно имеют о ней искаженные и косные представления. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и в этом случае мне хотелось бы ошибиться. Сколько же ты работал, Каспар! Уверен, у тебя нет причин корить себя. На твоем месте я бы не стал. Я-то себя не корю, хотя как раз мне это бы явно не повредило. Но я не корю себя потому, что укоры внушают тревогу, а тревога – состояние, недостойное человека…
– Тут ты прав, – вставил Каспар.
Потом они вдвоем прогулялись по городку, все там осмотрели – времени на прогулку ушло немного, но при большой восторженности, с какой они это делали, не так уж и мало, – встретили почтаря, который, скроивши гримасу, вручил Каспару письмо. Письмо было от Клары. Братья полюбовались церковью и величием городских башен, горделивыми городскими стенами, кое-где пробитыми, беседками, увитыми виноградом, и бельведерами на горе, где давным-давно никто не бывал. Высокие ели серьезно взирали на старинный городок, вдобавок небо сияло так ласково, и дома словно бы сердились и досадовали на свою приземистую неуклюжесть. Луга искрились, а холмы, поросшие золотым буковым лесом, манили ввысь и вдаль. Под вечер молодые люди отправились в лес. Шли большей частью молча. Каспар притих, брат догадывался, о чем он думает, и не хотел его отвлекать, ведь размышления казались ему важнее, нежели разговор. Они сели на скамью.
– Она не желает меня оставить, – сказал Каспар, – она несчастна.
Симон ничего не ответил, но в душе порадовался за брата, что эта женщина из-за него несчастна. «По-моему, замечательно, – думал он, – что она несчастна». Такая любовь восхищала его. Однако вскоре пришлось прощаться, так как Симону пора было в обратный путь, на сей раз поездом.
Глава седьмая
Настала зима. Симон, предоставленный сам себе, сидел, кутаясь в пальто, за столом в своей маленькой комнатке и писал. Он не знал, куда девать время, а поскольку по роду своих занятий привык писать, писал и теперь, как бы совершенно бесцельно, причем на маленьких полосках бумаги, нарезавши их ножницами. Погода стояла сырая, и пальто, в которое кутался Симон, заменяло печку. Ему нравилось сидеть в комнате, когда снаружи дуют свирепые ветра, сулящие снег. Приятно просто сидеть вот так, что-то делать и предаваться иллюзии, что все о нем забыли. Он вспоминал детство, такое близкое и все же далекое, как сон, и писал:
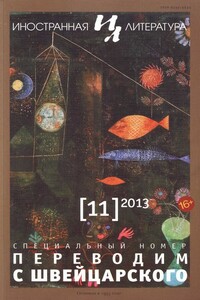
Поэтичные миниатюры с философским подтекстом Анн-Лу Стайнингер (1963) в переводе с французского Натальи Мавлевич.«Коллекционер иллюзий» Роз-Мари Пеньяр (1943) в переводе с французского Нины Кулиш. «Герой рассказа, — говорится во вступлении, — распродает свои ненаглядные картины, но находит способ остаться их обладателем».Три рассказа Корин Дезарзанс (1952) из сборника «Глагол „быть“ и секреты карамели» в переводе с французского Марии Липко. Чувственность этой прозы чревата неожиданными умозаключениями — так кулинарно-медицинский этюд об отварах превращается в эссе о психологии литературного творчества: «Нет, писатель не извлекает эссенцию, суть.
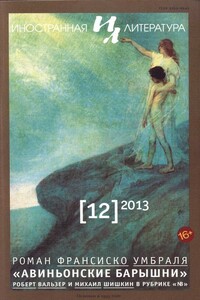
Перед читателем — трогательная, умная и психологически точная хроника прогулки как смотра творческих сил, достижений и неудач жизни, предваряющего собственно литературный труд. И эта авторская рефлексия роднит новеллу Вальзера со Стерном и его «обнажением приема»; а запальчивый и мнительный слог, умение мастерски «заблудиться» в боковых ответвлениях сюжета, сбившись на длинный перечень предметов и ассоциаций, приводят на память повествовательную манеру Саши Соколова в его «Школе для дураков». Да и сам Роберт Вальзер откуда-то оттуда, даже и в буквальном смысле, судя по его биографии и признаниям: «Короче говоря, я зарабатываю мой насущный хлеб тем, что думаю, размышляю, вникаю, корплю, постигаю, сочиняю, исследую, изучаю и гуляю, и этот хлеб достается мне, как любому другому, тяжким трудом».
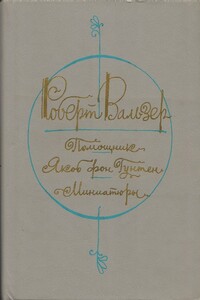
В однотомник входят два лучших романа Роберта Вальзера "Помощник" и "Якоб фон Гунтен", продолжившие общеевропейскую традицию противопоставления двух миров — мира зависимых и угнетенных миру власть имущих, а также миниатюры.
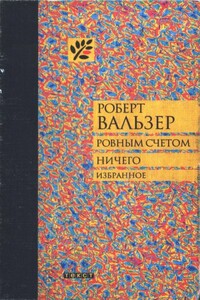
Когда начал публиковаться Франц Кафка, среди первых отзывов были такие: «Появился молодой автор, пишет в манере Роберта Вальзера». Позже о знаменитом швейцарском писателе, одном из новаторов литературы первой половины XX века, Роберте Вальзере (1878–1956) восторженно отзывались и сам Ф. Кафка, и Т. Манн, и Г. Гессе. «Если бы у Вальзера, — писал Г. Гессе, — было сто тысяч читателей, мир стал бы лучше». Притча или сказка, странный диалог или эссе — в книгу вошли произведения разных жанров. Сам Вальзер называл их «маленькими танцовщицами, пляшущими до изнеможения».На русском языке издаются впервые.
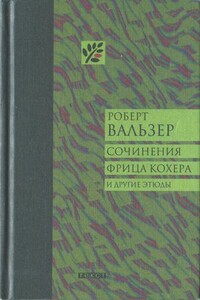
В книге представлены два авторских сборника ранней «малой прозы» выдающегося швейцарского писателя Роберта Вальзера (1878—1956) — «Сочинения Фрица Кохера» (1904) и «Сочинения» (1913). Жанр этих разнообразных, но неизменно остроумных и оригинальных произведений трудно поддается определению. Читатель сможет взглянуть на мир глазами школьника и конторщика, художника и бедного писателя, берлинской девочки и поклонницы провинциального актера. Нестандартный, свободный, «иронично-мудрый» стиль Вальзера предвосхитил литературу уже второй половины XX века.
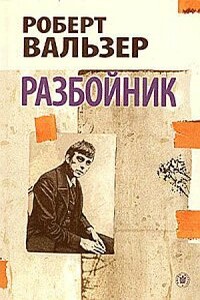
"Разбойник" (1925) Роберта Вальзера — лабиринт невесомых любовных связей, праздных прогулок, кофейных ложечек, поцелуев в коленку, а сам главный герой то небрежно беседует с политиками, то превращается в служанку мальчика в коротких штанишках, и наряд разбойника с пистолетом за поясом ему так же к лицу, как миловидный белый фартук. За облачной легкостью романа сквозит не черная, но розовая меланхолия. Однако Вальзер записал это пустяковое повествование почти тайнописью: микроскопическим почерком на обрезках картона и оберточной бумаги.
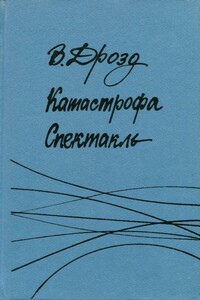
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник посвящен памяти Александра Павловича Чудакова (1938–2005) – литературоведа, писателя, более всего известного книгами о Чехове и романом «Ложится мгла на старые ступени» (премия «Русский Букер десятилетия», 2011). После внезапной гибели Александра Павловича осталась его мемуарная проза, дневники, записи разговоров с великими филологами, книга стихов, которую он составил для друзей и близких, – они вошли в первую часть настоящей книги вместе с биографией А. П. Чудакова, написанной М. О. Чудаковой и И. Е. Гитович.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
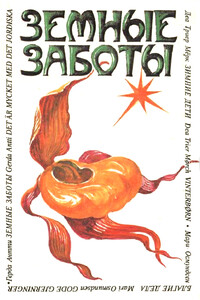
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли ранние произведения классика английской литературы Джейн Остен (1775–1817). Яркие, искрометные, остроумные, они были созданы писательницей, когда ей исполнилось всего 17 лет. В первой пробе пера юного автора чувствуется блеск и изящество таланта будущей «Несравненной Джейн».Предисловие к сборнику написано большим почитателем Остен, выдающимся английским писателем Г. К. Честертоном.На русском языке издается впервые.
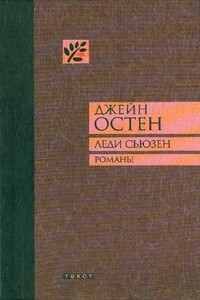
В сборник выдающейся английской писательницы Джейн Остен (1775–1817) вошли три произведения, неизвестные русскому читателю. Роман в письмах «Леди Сьюзен» написан в классической традиции литературы XVIII века; его герои — светская красавица, ее дочь, молодой человек, почтенное семейство — любят и ненавидят, страдают от ревности и строят козни. Роман «Уотсоны» рассказывает о жизни английской сельской аристократии, а «Сэндитон» — о создании нового модного курорта, о столкновении патриархального уклада с тем, что впоследствии стали называть «прогрессом».В сборник вошли также статья Е. Гениевой о творчестве Джейн Остен и эссе известного английского прозаика Мартина Эмиса.

Юношеское произведение Джейн Остен в модной для XVIII века форме переписки проникнуто взрослой иронией и язвительностью.
