Семейное дело - [292]
Он не договорил.
— Ты приехал помочь мне… с решением? — не оборачиваясь, спросил Ильин.
— Я приехал сюда отдохнуть, рваная ты галоша! — рявкнул Колька. — Отдай штаны. Я сам пойду договариваться с твоим начальством о раскладушке и жратве на целых четыре дня. Понял, ты, тюфяк под майонезом?
Он не видел, что Ильин плачет. Он никогда не видел этого и в детстве, даже в их самые трудные времена, не увидел и сейчас, потому что, по-прежнему ворча и поругиваясь, надевал брюки, совал ноги в мокрые еще туфли, натягивал свитер — и ушел договариваться с директором базы о раскладушке и обедах…
Потом Ильин будет долго думать, чем был для него этот приезд Кольки. Спасением? Может быть, и так. Он вернул ему ускользающее чувство уверенности в себе, а это оказалось главным для Ильина в те нелегкие апрельские дни одиночества и, пожалуй, растерянности…
Колька перевернул здесь вверх дном спокойный, годами сложившийся уклад жизни. Уже на следующее утро он пригласил всех осмотреть следы возле домика, где жил обслуживающий персонал, и заявил, что сам, своими глазами — чтоб ему провалиться на этом месте! — видел волка. Не очень крупного, но, судя по внешности, жутко голодного. Потому что судите по следам: волк бродил в основном под окнами поварихи! Ему не очень-то верили, посмеивались, но в игру включились все и довели бедную повариху до того, что она по утрам кричала в форточку — звала провожатых, а земля под ее окнами была густо покрыта волчьими следами. Впрочем, Ильину Колька признался, что ни свет ни заря идет под окна поварихи и делает «волчьи следы» при помощи трех пальцев.
Из города позвонил Кузин и распорядился, чтобы на два дня приготовили его комнату. Ильин, узнав, что приезжает замдиректора по производству, начал морщиться — только Кузина ему и не хватало! И Колька спросил с яростной надеждой в глазах: «Что, паршивый человек?» — «Да не очень-то симпатичный…» — ответил Ильин и потом пожалел об этом. Когда приехал Кузин, к двери его комнаты была прикреплена дощечка с изящным дамским силуэтом и двумя ноликами… Кузин ударился в крик, все на базе давились от смеха, в том числе старичок директор, но Кольку никто не выдал.
Наутро Кузин сказал, что уезжает, потому что спать здесь просто невозможно — полтора часа под окном выли и лаяли собаки, штук пять, не меньше. Колька сочувственно кивал — да, да, просто ужас, и это уже не первую ночь. Наверно, дикие собаки, их развелось, говорят, вокруг крупных городов великое множество… И снова все давились, догадываясь, что никаких собак не было и в помине…
— А если б он остался? — спросил Кольку Ильин.
Тот невозмутимо ответил:
— Тогда бы над его комнатой всю ночь любились кошки.
— Сколько тебе лет?
— Я не заглядываю в свой паспорт, Серега, и давно не праздную дни рождения. А теперь давай пробежку на станцию за пивом…
Когда он уехал, Ильина спросили, кем работает его друг. Он ответил, но ему не поверили. Да бросьте вы! Доктор наук! В цирке, наверно, так прямо и скажите… Ильин засмеялся: пусть будет в цирке. Ему снова было легко, будто три дня побыл на веселом и добром празднике. И хорошо, что не было больше никаких, совершенно никаких разговоров, и только тогда, когда Колька уехал, Ильин вспомнил. «У тебя сейчас пора решения…» Что ж, он прав, но решить все могу только я…
На этот раз Сережка приехал в Малиновку один, внешне спокойный, — погода хорошая, день свободный, почему бы и не приехать, ты ведь не против? — но Ильин сразу почувствовал и деланность этого спокойствия, и вовсе не желание Сережки отдохнуть денек. Он ни о чем не спрашивал, даже мысленно не подгонял его, — Сережка не умел долго таиться. Скорее всего, думал Ильин, парень не выдержал, написал Ленке Чиркиной, получил ответ и сейчас брякнет как бы между прочим: «Знаешь, у меня тут идейка появилась — сбегать на денек в Заполярье».
Но день уже кончился, наступили прозрачные синеватые сумерки — Сережка молчал. Та раскладушка, на которой ночевал Колька, все еще стояла в комнате Ильина, и он сказал Сережке:
— Ты еще можешь спать на гвоздях, так что давай готовь раскладушку.
— Я обещал матери вернуться сегодня.
— Раз обещал — тогда вопроса нет.
— Вообще нет никаких вопросов, — усмехнулся Сережка, и эта усмешка была незнакомой Ильину. Он насторожился: вот сейчас Сергей начнет говорить. Но Сергей замолчал, и Ильин пошутил: что за странные загадки? Если бы в жизни не было вопросов, и жить, наверно, было бы неинтересно.
— А вот у меня вопросов нет, — уже угрюмо повторил Сережка. — Впрочем, один есть. Ты любишь маму?
Он спросил это неожиданно, в упор, повернувшись к Ильину всем телом.
— У нас очень тяжкие отношения, Сережа. Быть может, совсем плохие. Вряд ли в такое время и в таком положении можно говорить о любви. А изменить их…
— Я это давно знаю, — снова отвернулся Сергей. — Можно еще один вопрос? Если… если ты уйдешь… или мама уйдет…
Разговор становился все тяжелее и тяжелее обоим. Сергею было трудно спрашивать: пожалуй, он впервые в жизни так близко, не по книгам, фильмам или понаслышке столкнулся с разрывом двух когда-то любивших друг друга людей, а сам продолжал любить их

Закрученный сюжет с коварными и хитрыми шпионами, и противостоящими им сотрудниками советской контрразведки. Художник Аркадий Александрович Лурье.

Повесть «Твердый сплав» является одной из редких книг советской приключенческой литературы, в жанре «шпионский детектив». Закрученный сюжет с погонями и перестрелками, коварными и хитрыми шпионами, пытающимся похитить секрет научного открытия советского ученого и противостоящими им бдительными контрразведчиками…
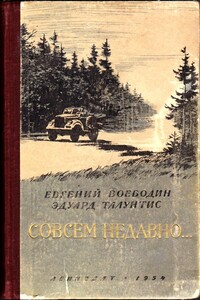
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В творчестве известного ленинградского прозаика Евгения Воеводина особое место занимает военно-патриотическая тема. Широкое признание читателей получили его повести и рассказы о советских пограничниках. Писатель создал целую галерею полнокровных образов, ему удалось передать напряжение границы, где каждую минуту могут прогреметь настоящие выстрелы. В однотомник вошли три повести: «Такая жаркая весна», «Крыши наших домов» и «Татьянин день».

Имя рано ушедшего из жизни Евгения Воеводина (1928—1981) хорошо известно читателям. Он автор многих произведений о наших современниках, людях разных возрастов и профессий. Немало работ писателя получило вторую жизнь на телевидении и в кино.Героиня заглавной повести «Эта сильная слабая женщина» инженер-металловед, работает в Институте физики металлов Академии наук. Как в повести, так и в рассказах, и в очерках автор ставит нравственные проблемы в тесной связи с проблемами производственными, которые определяют отношение героев к своему гражданскому долгу.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Имя Льва Георгиевича Капланова неотделимо от дела охраны природы и изучения животного мира. Этот скромный человек и замечательный ученый, почти всю свою сознательную жизнь проведший в тайге, оставил заметный след в истории зоологии прежде всего как исследователь Дальнего Востока. О том особом интересе к тигру, который владел Л. Г. Каплановым, хорошо рассказано в настоящей повести.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».

