Самоучки - [4]
Там я и сидел до поры, в осаде от перемен, уже без принципов, но еще с убеждениями. Мой пожилой сосед, на удивление мирный, мельком взглядывая на заглавие книжки, с которой я выскакивал в коридор к оглушительному телефону, неизменно спрашивал: “Над чем бьется пытливый ум?” — и, не дожидаясь ответа, сворачивал в уборную.
А я, в качестве дипломной работы, решал проблему со следующей формулировкой: что же такое наша непутевая государственность — злая скандинавская инъекция или же дреговичи, вятичи и поляне сами обладали крупицей государственного гения, который циркулирует в нашей крови, подобно морфию, гонит нас и по сей день, и мы движемся, то пускаясь бешеным наметом, затаптывая своих же младенцев, то бредя по колено в крови и месиве талого снега, потрясая иконами, темными чадом раскаяния, от неизвестного начала к неизвестному концу.
И я, хотя и не смог ответить на этот вопрос, на который в течение добрых двухсот лет безуспешно отвечали люди куда более искушенные в делах минувшего, постиг первую ступень незнания. Тогда — то, вопреки моему упрямству и самоуверенности, вполне простительной в молодые годы, я впервые осознал, что есть на свете вопросы, ответов на которые нет и не предвидится.
Труды над дипломом я перемежал поисками работы и, словно совершая некий ритуал, смысл которого я наконец перестал понимать, раз за разом возвращался домой с отказами от терпящих бедствие издательств, переполненных редакций и научно — исследовательских институтов, где не имел никаких знакомств. Чтобы притупить горечь неудач, несправедливо казавшихся мне временными, у станции метро я покупал бутылку пива, а потом заходил в булочную. Так продолжалось почти до осени. Дошло до того, что мне захотелось встретить кого — нибудь из старых друзей. То ли небо вняло моему хотению, то ли это грустное, созерцательное время года возбудило во мне предчувствие, но чего я желал, то и случилось.
День, когда я встретил Разуваева Павла, был воскресный, тихий, задумчивый. Солнце неярко золотилось в кронах деревьев, и город был как мудрый человек. Я шагал по узкому тротуару мимо фонарных столбов, которые казались мне крепко вбитыми в тугую землю кольями золотоискателей, застолбивших все возможные ответы раз и навсегда. Я хорошо помню большую синюю машину, которая, вынырнув откуда — то из — за спины, резко затормозила, словно споткнулась, смирив бег огромных тяжелых колес, и они покатились неторопливо, как колеса детской коляски на Гоголевском бульваре, когда можно идти рядом и, точно четки, перебирать глазами мерно перекатывающиеся спицы.
— А я ведь уже полгода здесь, — рассказывал он мне, сбиваясь от восторга, — работаю… весной приехал.
— Где работаешь? — спросил я.
— Да, — махнул он рукой, — занимаюсь кое — чем. Адрес твой потерял, понимаешь, а у вас тут даже справочного ни одного не осталось, такие дела. Ты за хлебом? Пойдем зайдем. Жди, Чапа, — сказал Павел кому — то внутрь своего никелированного чуда, похожего на бронетранспортер.
Я накупил на удивление черствых булок, и мы зашагали обратно к подъезду. Черная машина сопровождала нас слева, точно луна в известном романсе, потом припарковалась и замерла, целиком отразившись в луже, образ которой, по странной прихоти коммунальных служб, является для меня одним из самых ранних детских воспоминаний.
— Это кто же такой — Чапа? — спросил я в лифте.
— Это водитель мой, — объяснил Павел. — Чапа его зову.
— Как собаку.
— Мы, Петя, хуже собак. Разве не так?
— Пожалуй, — согласился я, чтобы никого не обижать.
В армейской дружбе есть что — то звериное и не требующее слов. Можно просто сидеть рядом и смотреть в разные стороны, ощущая при этом всю палитру общения. Он допил чай и еще раз внимательно обследовал мое жилище. Вместе с ним мои глаза не без некоторого удовлетворения проделали путешествие по голым стенам, пыльным и беспорядочным грудам книг, а оттуда к лампочке без абажура и к одежному шкафу, три створки которого были истыканы ножом, словно бедра святого Себастьяна стрелами злобных святотатцев, — путешествие, которое мои глаза свершали ежедневно по нескольку раз в минуты суровых раздумий.
Я отлично знал, что для него занятия, подобные моему, были чем — то вроде телевизионного сообщения, что английская королева родила пару мышат, а далай — лама принял крещение по православному обряду, и — подозреваю — если бы не некоторые обстоятельства нашей совместной двухгодичной повинности, он бы недоумевал, как, зачем и для чего такие люди вообще живут на свете. Думаю, ничего против он не имел, потому что нельзя же быть против травы, которая произрастает далеко от твоей газонокосилки; к тому же волки червей не едят. С другой стороны, зная меня, он невольно допускал, что те занятия, которым я предаюсь, могут иметь какой — то смысл — пусть даже и самый ничтожный, однако вникать в него — значило совершать преступление против человеческой природы.
Моя мнимая ученость произвела на него некоторое впечатление. Он долго смотрел на книжный шкаф, раздутый от разноформатных книг, как брюхо осла, больного тимпанитом. Похожим взглядом дети таращатся на прилавки с игрушками или кондитерскую витрину.
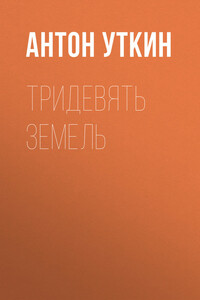
Новое и на сегодняшний день самое крупное произведение Антона Уткина развивает традиции классического русского романа, но в то же время обращено к мировой культуре. Роман «Тридевять земель» написан в четырёх временах и сюжетно связывает как различные эпохи, так и страны и территории. Сплетение исторических периодов и персонажей превращается в грандиозную сагу о наиболее драматических эпизодах российской истории. Предметом этого художественного исследования стали совершенно забытые эпизоды русско-японской войны, история земского движения и самоуправления в России, картины первой русской революции и меткие зарисовки правосознания русского народа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
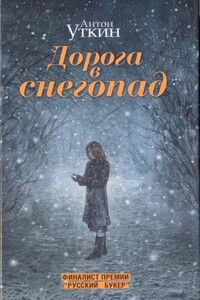
Москва, 2007 год. Поколение сорокалетних подводит первые итоги жизни. Благополучный мир Киры Чернецовой, жены преуспевающего девелопера, выстроенный, казалось бы, так мудро, начинает давать трещину. Сын Киры — девятиклассник Гоша — уходит из дома. Муж, переживающий одно любовное приключение за другим, теряет контроль над бизнесом. Подруги-карьеристки, познавшие борьбу за существование, лишь подливают масло в огонь. В этот момент домой в Москву из Эдинбурга после долгого отсутствия возвращается одноклассник Киры доктор биологии Алексей Фроянов.
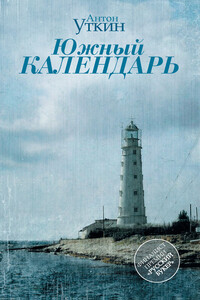
В сборник короткой прозы Антона Уткина вошли фольклорная повесть «Свадьба за Бугом» и рассказы разных лет. Летом 2009 года три из них положены в основу художественного фильма, созданного киностудией «Мосфильм» и получившего название «Южный календарь». Большинство рассказов, вошедших в сборник, объединены южной тематикой и выполнены в лучших традициях русской классической литературы. Тонкий психологизм сочетается здесь с объемным видением окружающего мира, что в современной литературе большая редкость.
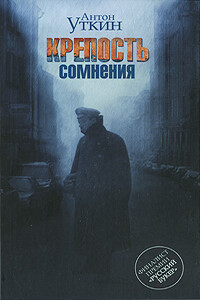
«Крепость сомнения» – это роман, которого еще не было в современной отечественной литературе. Перед читателем произведение, жанр которого определить невозможно: это одновременно и роман-адюльтер, и роман-исследование русской истории. Географическая карта с загадочными названиями, нарисованная в начале Гражданской войны в офицерской тетрадке, оказывается для главных героев романа мостом между прошлым и настоящим. Постоянная смена фокуса и почти кинематографический монтаж эпизодов создают редкий по силе эффект присутствия.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..
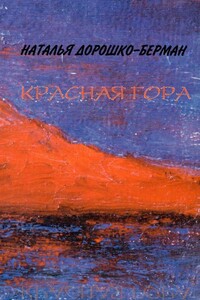
Сборник представляет собой практически полное собрание прозаических произведений Натальи Дорошко-Берман (1952–2000), талантливого поэта, барда и прозаика. Это ироничные и немного грустные рассказы о поисках человеком самого себя, пути к людям и к Богу. Окунувшись в это варево судеб, читатель наверняка испытает всю гамму чувств и эмоций и будет благодарен автору за столь редко пробуждаемое в нас чувство сопричастности ближнему.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.
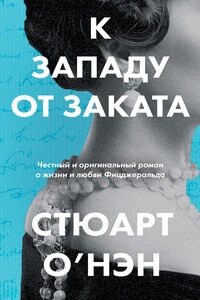
Последние годы жизни Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, классика американской литературы, автора «Великого Гэтсби» и «Ночь нежна», окутаны таинственностью и не особо известны публике. Однако именно тогда, переживая трагическую болезнь жены Зельды и неудачи в карьере, Фицджеральд встретил свою вторую большую любовь — голливудскую колумнистку Шейлу Грэм. Этой загадочной англичанке он посвятил свой последний и незаконченный роман «Последний магнат».
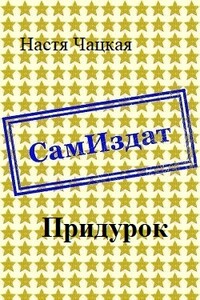
Кровь Кулина не проебёшь в драке и не выжжешь горькой текилой, мамасита. Предупреждение: ненормативная лексика.