Самоубийство как культурный институт - [59]
Смерть атеиста
Подвергаясь символическому осмыслению, жизненный опыт конкретного человека приобретал метафизический характер и парадигматическое качество>{8}. B символическом ключе пережитый им смертный приговор и помилование были для Достоевского аналогом смерти и воскресения Христа: приговор представлял смертность человека, а помилование — воскресение к жизни вечной, уготованное христианину[455]. Эта символика имеется в повести Гюго, которую Достоевский вспомнил, ожидая казни. У Гюго осужденный полагает, что «все люди приговорены к смерти в разные сроки»[456]. В 1860-е и 1870-е годы, в эпоху нигилизма и атеизма, Достоевский усмотрел в этой аналогии новый смысл и особую остроту — смертный приговор был окончательным и помилованию не подлежал. В этом контексте сама смерть Христа подвергалась переосмыслению. В эпоху, когда человек, вслед за наукой, воспринимает себя самого лишь как тело, подверженное тлению, каким видится Иисус Христос на кресте? Об этом рассуждает Ипполит, глядя на картину Ганса Гольбейна «Мертвый Христос» (1521) — своего рода икону века гуманизма:
На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. <…> это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки <…> лицо не пощажено нисколько; тут одна природа и воистину таков и должен быть труп человека, кто бы он ни был, после таких мук. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно и что и тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились; большие, открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить; смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? <…> Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. <…> И если б этот самый учитель мог увидать свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится, когда смотришь на картину (8:338–339).
Это «квазианатомическое видение Христа»[457] (считается, что Гольбейн писал свою картину с натуры — с тела утопленника-самоубийцы в анатомическом театре), созерцание Христа-трупа, выступает для Достоевского как еще одна эмблема положения человека в эпоху позитивизма и атеизма. Герой Достоевского Ипполит, ставит и самого Христа в это положение. Что, если бы Бого-человек мог прозреть будущее не духовным, а материальным видением и увидеть свой труп, снятый с креста? Вопрос остается открытым. Одно ясно: человек эпохи позитивизма, увидевший себя в зеркале науки как разлагающийся труп, испытывает при мысли о смерти «страшную тоску и смятение», едва ли веря, что такой труп воскреснет.
Смысл (неудавшегося) самоубийства Ипполита лежит именно в символической и метафизической проекции этой житейской ситуации. В эпизоде со смертью Ипполита Достоевский как бы пытается трансформировать классические образцы смерти (но не доводит дело до конца). Различные элементы хорошо известных парадигм перегруппируются и переосмысляются. Как Сократ, Ипполит — приговоренный, который решает принять смерть до истечения срока. Но в отличие от Сократа, от которого — один шаг к смерти Христа, он не способен с радостью принять смертный приговор; смерть для него не освобождение души от оков тела. Смерть Ипполита напоминает смерть Сенеки, который лишил себя жизни, предупреждая приговор Нерона (и нанес себе удар неверной рукой), или Петрония, который умер посреди пира, также предупреждая приговор тирана. Говоря словами Сенеки, такая смерть — отречение от природы, возвращение ее дара[458]. Ипполит оформляет сцену своего самоубийства в этом классицистическом ключе: на рассвете, после «пира», с бокалом шампанского в руках.
Эта схема с полной очевидностью воспроизводится в наброске «Смерть поэта» в записной книжке 1869–1870 годов, рядом с планами романа «Идиот». Атеист, Попик, Раскольник, Доктор-нигилист и Поэт говорят за бутылкой вина «о свободе и о свободном человеке (N. B. по апостолу Павлу)» (9:120). По апостолу Павлу, человек имеет выбор, как жить — по закону плоти или по закону духа. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир» (Римляне 8:6)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
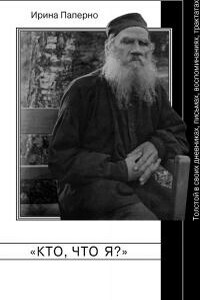
В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, — не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно — филолог, литературовед, историк, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

За последние десятилетия, начиная c перестройки, в России были опубликованы сотни воспоминаний, дневников, записок и других автобиографических документов, свидетельствующих о советской эпохе и подводящих ее итог. При всем разнообразии они повествуют о жизнях, прожитых под влиянием исторических катастроф, таких как сталинский террор и война. После падения советской власти публикация этих сочинений формировала сообщество людей, получивших доступ к интимной жизни и мыслям друг друга. В своей книге Ирина Паперно исследует этот гигантский массив документов, выявляя в них общие темы, тенденции и формы.

Управление Историей, как оно могло бы выглядеть? Какая цель оправдывает средства? Что на самом деле властвует над умами, и какие люди ввязались бы в битву за будущее.

Наш современник обнаруживает в себе психические силы, выходящие за пределы обычного. Он изучает границы своих возможностей и пытается не стать изгоем. Внутри себя он давно начал Долгую Войну — кампанию с целью включить «одаренных» в общество как его полноправных членов. Изучать и развивать их силы, навсегда изменить возможности всей расы.

Психиатрическая больница… сумасшедший… религиозный бред… Или что-то большее? Эта книга о картине мира странных людей. Эта книга о новой вере. Эта книга — библия цифровой эпохи.

Добро пожаловать в эпоху новых технологий – эпоху, когда мы используем наши смартфоны минимум по 3 часа в день. Мы зациклены на наших электронных письмах, лайках в Instagram и Facebook, обожаем сериалы и с нетерпением ждём выхода нового видеоролика на YouTube. Дети, родившиеся в эпоху интернета, проводят столько времени перед экранами, что общение с живыми людьми вызывает существенные трудности. В своей революционной книге психолог Адам Алтер объясняет, почему многие из сегодняшних приложений так неотразимы и как снизить их влияние на нашу жизнь.
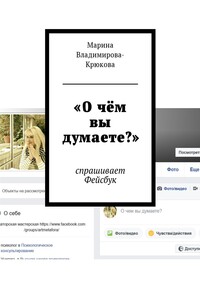
«О чём вы думаете?» — спрашивает Фейсбук. Сборник авторских миниатюр для размышлений, бесед и доброго расположения духа, в который вошли посты из соцсети.

За прошедшие с этого момента 150—200 лет человек получил неизмеримо больше знаний о свойствах природы и создал существенно больше технологий, чем за все предыдущие тысячелетия. Вполне закономерно, что в результате этого наш мир оказался сегодня на пороге новых, грандиозных и во многом неожиданных метаисторических перемен. Эти перемены связаны с зарождающейся сегодня научной биотехнологической революцией, с созданием новой биомедицины.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.